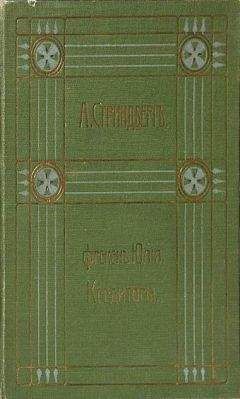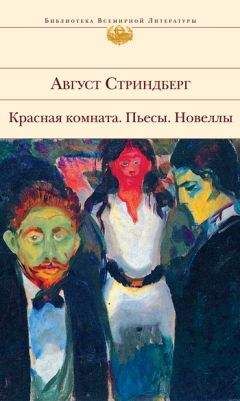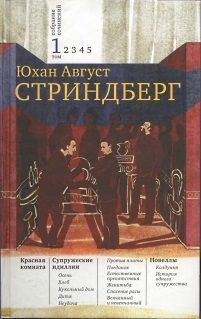Август Стриндберг - Красная комната
Зная эту великую силу Смита, молодой писатель несколько робел, подымаясь по темным лестницам его дома у собора. Долго ему пришлось сидеть и ждать, причем он предавался мучительнейшим размышлениям, пока не открылась дверь и молодой человек с отчаянием на лице и бумажным свертком под мышкой не выскочил из комнаты. Дрожа, Фальк вошел во внутренние комнаты, где принимал издатель. Сидя на низком диване, спокойный и кроткий, как бог, тот ласково кивнул своей седобородой головой в синей шапочке и так мирно курил свою трубку, как будто никогда не разбивал надежд человека или не отталкивал от себя несчастного.
— Добрый день, добрый день!
И он несколькими божественными взглядами окинул одежду вошедшего, которую нашел чистой; но не предложил ему сесть.
— Мое имя — Фальк.
— Этого имени я еще не слышал. Кто ваш отец?
— Отец мой умер!
— Он умер? Хорошо! Что я могу сделать для вас, сударь?
«Сударь» вынул рукопись из бокового кармана и подал ее Смиту; тот не взглянул на нее.
— И это я должен напечатать? Это стихи? Да, конечно! Знаете ли, сударь, сколько стоит напечатать лист? Нет, вы не знаете этого!
При этом он ткнул несведущего чубуком в грудь.
— Есть у вас имя, сударь? Нет! Отличились ли вы чем-нибудь? Нет!
— Академия похвалила эти стихи.
— Какая академия? Академия наук! Та, что издает все эти кремневые штуки?
— Кремневые штуки?
— Да! Вы ведь знаете академию наук! Внизу, у музея, около залива. Ну вот!
— Нет, господин Смит, шведская академия, на бирже…
— Ах, это та, что со стеариновыми свечами! Все равно! Никто не знает, на что она нужна! Нет, имя надо иметь, милостивый государь, имя, как Тегнель {40}, как Ореншлегель {41}, как… да! Наша страна имеет многих великих поэтов, имена которых как раз не приходят мне в голову; но надо иметь имя! Господин Фальк? Гм! Кто знает господина Фалька? Я, по меньшей мере, не знаю, а я знаю многих великих поэтов. Я сказал на этих днях другу моему Ибсену: «Послушай, Ибсен,— я говорю ему,— ты послушай, Ибсен, напиши что-нибудь для моего журнала; я заплачу сколько захочешь!» Он написал, я заплатил, но я получил обратно свои деньги.
Уничтоженный молодой человек охотнее всего спрятался бы в щели пола, услыхав, что стоит перед человеком, который с Ибсеном на «ты». Он хотел взять обратно свою рукопись и уйти, как только что сделал другой, подальше, к какой-нибудь большой реке. Смит заметил это.
— Да! Вы можете писать по-шведски, я вам верю, сударь. Вы знаете нашу литературу лучше, чем я. Ну ладно! У меня идея. Я слышал, что в былые времена были прекрасные, великие духовные писатели, при Густаве, сыне Эрика {42}, и его дочери Кристине, не так ли?
— При Густаве-Адольфе?
— Да, при Густаве-Адольфе, ладно. Помню, у одного было очень известное имя; он написал большую вещь в стихах, кажется, о Божьем творении! Гаком звали его!
— Вы говорите о Хаквине Спегеле {43}, господин Смит! «Дела и отдых Божьи».
— Ах, да! Ну! Так вот, я думал издать его! Наш народ стремится теперь к религии; это я заметил; и надо им дать что-нибудь. Я много уже издал для них: Германа Франке {44} и Арндта {45}, но Библейское общество может продавать дешевле меня, вот я и хочу им дать что-нибудь хорошее за хорошую цену. Хотите заняться этим, сударь?
— Я не знаю, что мне придется делать, так как дело идет только о перепечатке,— ответил Фальк, не смевший сказать «нет».
— Какая наивность! Редактирование и корректуру, само собой разумеется! Согласны? Вы издаете, сударь! Нет? Напишем маленькую записочку? Труд выходит выпусками. Нет? Маленькую записочку? Дайте-ка мне перо и чернила! Ну?
Фальк повиновался; он не мог сопротивляться. Смит написал, а Фальк подписал.
— Так! Вот в чем дело! Теперь другое! Дайте-ка мне маленькую книжку, лежащую на этажерке! На третьей полке! Так! Глядите теперь! Брошюра! Заглавие: «Der Schutzengel» [2]. А вот виньетка! Корабль с якорем, за кораблем — шхуна без рей, кажется! Известно ведь, какая благодать морское страхование для всеобщей социальной жизни. Все люди когда-нибудь, много ли, мало ли, посылают что-нибудь на корабле морем. Не так ли? Ну так всем людям нужно морское страхование, не так ли? Ну так это еще не всем людям ясно! Поэтому обязанность знающих разъяснять незнающим. Мы знаем, я и вы, значит, мы должны разъяснять. Эта книга говорит о том, что каждый человек должен страховать свои вещи, когда посылает их морем. Но эта книга плохо написана. Ну так мы напишем лучше. Вы напишете новеллу для моего журнала «Наша страна», и я требую, чтобы вы сумели дважды повторить в ней название «Тритон» — это акционерное общество, основанное моим племянником, которому я хочу помочь; надо ведь помогать своему ближнему? Так вот, имя «Тритон» должно встретиться два раза, не больше и не меньше; но так, чтобы это не было заметно! Понимаете вы, сударь мой?
Фальк почувствовал что-то противное в предложенном деле, но ведь не было ничего нечестного в предложении, и к тому же это давало ему работу у влиятельного человека; и так сразу, без малейших усилий. Он поблагодарил и согласился.
— Вы ведь знаете формат? Четыре столбца в странице, всего сорок столбцов по тридцать две строчки. Напишем, что ли, маленькую записочку?
Смит написал записку, и Фальк подписал ее.
— Ну, так послушайте, вы ведь знаете шведскую историю! Посмотрите-ка там, на этажерке! Там лежит клише, деревяшка! Правее! Так; можете вы мне сказать, кто эта дама? Говорят, какая-то королева!
Фальк, не увидевший сначала ничего, кроме черной деревяшки, заметил наконец черты человеческого лица и объявил, что он думает, это Ульрика-Элеонора {46}.
— Ну не говорил ли я? Хи-хи-хи! Деревяшка эта сходила за королеву Елизавету Английскую и была напечатана в американской народной книжке, и теперь я дешево купил ее с кучей других. Я пущу ее за Элеонору-Ульрику в моей народной библиотеке. Хороший у нас народец, он так славно раскупает мои книжки. Хотите написать текст, сударь?
Тонко развитая совесть не могла найти ничего нечестного, хотя он и чувствовал что-то неприятное.
— Ну! Так напишем маленькую записку! Так!
И опять написали.
Так как Фальк считал аудиенцию оконченной, он сделал вид, что хочет получить обратно свою рукопись, на которой Смит сидел все это время. Но тот не хотел выпустить ее из своих рук: он прочтет ее, но для этого нужно время.
— Вы разумный человек, сударь, и знаете, чего стоит время. Сейчас здесь был молодой человек, тоже со стихами, с большой вещью в стихах, которой я не мог воспользоваться. Я предложил ему то же, что вам, сударь; знаете ли вы, что он сказал? Он попросил меня сделать нечто такое, о чем я не могу рассказать. Да, вот что он сказал и убежал. Он недолго проживет, этот человек. Прощайте, прощайте! Достаньте себе Гакома Спегеля! Прощайте!
Смит указал чубуком на дверь, и Фальк удалился.
Шаги его были нелегки. Деревяшка была тяжела, тянула его к земле и задерживала. Он подумал о бледном молодом человеке с рукописью, осмелившемся сказать нечто такое Смиту, и возгордился. Но потом всплыло воспоминание о старых отцовских советах, и тут выскочила старая ложь, что всякая работа одинаково почтенна, и еще больше усилила его гордость; его ум был пойман, и он пошел домой, чтобы написать сорок восемь столбцов об Ульрике-Элеоноре.
Так как он встал очень рано, то в девять часов уже сидел за письменным столом. Он набил себе большую трубку, взял два листа бумаги, вытер стальное перо и захотел припомнить, что он знает об Ульрике-Элеоноре. Он перелистал Эклунда {47} и Фрюкселля {48}. Там было много написано под рубрикой Ульрика-Элеонора, но о ней самой не было ничего. В полчаса десятого он истощил материал; он написал, когда она родилась, когда умерла, когда вступила на престол, когда отказалась от правления, как звали ее родителей и за кем она была замужем. Это была обыкновенная выписка из церковных книг, и она не заняла и трех страниц. Оставалось, значит, еще тринадцать. Он выкурил несколько трубок. Он стал копаться пером в чернильнице, как бы ловя в ней рыбу, но ничего не появлялось. Он должен был сказать что-нибудь о ее личности, дать легкую характеристику; у него было ощущение, будто ему приходилось произносить над ней приговор. Хвалить ее или порицать? Так как ему было безразлично, то он не мог решиться ни на то, ни на другое до одиннадцати часов. Он разругал ее и дошел до конца четвертой страницы: осталось еще двенадцать. Он хотел говорить о ее правлении, но так как она не правила, то об этом нечего было сказать. Он написал о государственном совете одну страницу — осталось одиннадцать. Не было еще и половины; он спас честь Гёрца {49} — одна страница — осталось десять! Как он ненавидел эту женщину! Новые трубки, еще перья! Он удалился в глубь времен, дал обзор и, будучи в раздражении, ниспроверг свой прежний идеал — Карла XII! Но это было сделано так быстро, что только одна страница прибавилась к другим. Осталось девять! Он пошел вперед и ухватился за Фредерика I {50}. Полстраницы! С тоской глядел он на бумагу, видел, что осталось еще полпути, но не мог пройти его. Семь с половиной страничек он сделал из того, что у Эклунда занимало только полторы. Он бросил деревяшку на пол, толкнул ее ногой под письменный стол, полез за ней, опять достал ее, стряхнул с нее пыль и положил на стол. Какие мучения! Он почувствовал сухость в душе, уподобившейся этой деревяшке; он старался взвинтить себя; он старался пробудить в себе чувства к покойной королеве, которых у него не было. Тогда он почувствовал свою неспособность, отчаяние и унижение! И это поприще он предпочел другим! Он опять призвал свой разум и занялся «Ангелом-хранителем».