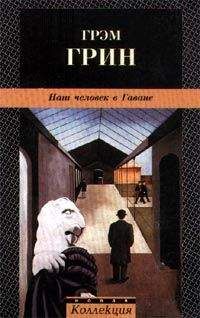Грэм Грин - Суть дела
— Кроме себя самого. Ты ведь всегда говоришь, что я себялюбец.
— Нет, по-моему, ты и себя не любишь.
Он защищался, стараясь уклониться от опасной темы. В разгар бури он не мог прибегнуть к спасительной лжи.
— Я стараюсь, чтобы тебе было хорошо. Я делаю все, что в моих силах.
— Тикки, смотри, ты и сам не говоришь, что любишь меня! Ну, скажи. Скажи хоть раз.
Он посмотрел поверх бокала с джином на это живое свидетельство своих неудач: желтоватая от акрихина кожа, покрасневшие от слез глаза. Никто не может поручиться, что будет любить вечно, но четырнадцать лет назад он молча поклялся во время той немноголюдной, но убийственно пристойной церемонии в Илинге, среди кружев и горящих свечей, что хотя бы постарается сделать ее счастливой.
— Тикки, ведь у меня, кроме тебя, ничего нет, а у тебя… у тебя есть почти все!
Ящерица метнулась вверх по стене и замерла снова; из ее маленькой крокодильей пасти торчало прозрачное крылышко. Летучие муравьи глухо бились об электрическую лампочку.
— И все-таки ты хочешь меня бросить, — сказал он с упреком.
— Да. Я знаю, что и тебе плохо. Когда я уеду, у тебя будет хотя бы покой.
Он всегда попадался на том, что забывал, как она наблюдательна. У него и в самом деле было почти все; единственное, чего ему недостает, это покоя. «Все» — означало работу, раз навсегда заведенный порядок в маленьком голом служебном кабинете, смену времен года в стране, которую он любит. Его часто жалели: работа у него суровая, неблагодарная. Но Луиза понимала его гораздо глубже. Если бы к нему вернулась молодость, он бы выбрал снова такую жизнь, но на этот раз не стал бы ни с кем делить ни крысу на краю ванны, ни ящерицу на стене, ни ураган, распахивающий ночью окна, ни последний розовый отсвет дня на дорогах.
— Ты говоришь чушь, дорогая, — сказал он уже безнадежно, смешивая коктейль. В голове у него снова натянулась какая-то жила. У несчастья тоже бывает свой ритуал: сначала страдает она, а он мучительно старается не произнести роковых слов; потом она ровным голосом говорит правду о том, о чем бы лучше солгать, и наконец самообладание изменяет ему и он сам бросает ей, как врагу, правду в лицо. И когда дело дошло до последней стадии и он вдруг крикнул ей, чуть не расплескав ангостуру — так у него дрожали руки: «Ты мне покоя не дашь никогда!» — он уже знал, что за этим последует примирение. А потом опять ложь, до новой сцены.
— Я сама тебе это говорю. Если я уеду, у тебя будет покой.
— Ты и понятия не имеешь, что такое покой! — бросил он ей со злостью. Он почувствовал себя оскорбленным, как если б она неуважительно отозвалась о женщине, которую он любит. Скоби день и ночь мечтал о покое. Как-то он приснился ему в виде громадного сияющего рога молодой луны, плывущей за окном словно ледяная гора, — она сулит вселенной гибель, если столкнется с ней. Днем он пытался отвоевать хоть несколько минут покоя, запершись у себя в кабинете, ссутулившись под ржавыми наручниками и читая рапорты своих подчиненных. «Покой», «мир» — эти слова казались ему самыми прекрасными на свете: «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам… Агнец божий, принявший на себя грехи мира, ниспошли нам мир свой». Во время обедни он зажимал пальцами веки, чтобы сдержать слезы, так тосковал он о покое.
Луиза сказала с былою нежностью:
— Бедный ты мой, ты бы хотел, чтобы и я умерла, как Кэтрин. Ты так хочешь одиночества.
Но он упрямо ответил:
— Я хочу, чтобы ты была счастлива.
— А ты мне все-таки скажи, что меня любишь, — устало попросила она. — Мне будет легче.
Ну вот, подумал он хладнокровно, еще одна сцена позади; на сей раз она прошла довольно легко, сегодня мы сможем поспать.
— Ну, конечно, я тебя люблю, дорогая, — сказал он. — И я как-нибудь устрою, чтобы ты могла уехать. Вот увидишь!
Он бы все равно дал обещание, даже если бы мог предвидеть все, что из этого выйдет. Он всегда был готов отвечать за свои поступки и с тех пор, как дал себе ужасную клятву, что она будет счастлива, в глубине души догадывался, куда заведет его этот поступок. Когда ставишь себе недосягаемую цель — плата одна: отчаяние. Говорят, это непростительный грех. Но злым и растленным людям этот грех недоступен. У них всегда есть надежда. Они никогда не достигают последнего предела, никогда не ощущают, что их постигло поражение. Только человек доброй воли несет в своем сердце вечное проклятие.
Часть вторая
ГЛАВА I
Уилсон уныло стоял у себя в номере и разглядывал длинный тропический пояс, который змеился на кровати, как рассерженная кобра; от бесплодной борьбы с ним в тесной комнатушке стало еще жарче. Он слышал, как за стеной Гаррис в пятый раз чистит сегодня зубы. Гаррис свято верил в гигиену полости рта. «В этом треклятом климате, — рассуждал он над стаканом апельсинового сока, подняв к собеседнику бледное изможденное лицо, — я сохранил здоровье только тем, что всегда чистил зубы до и после еды». Теперь он полоскал горло, и казалось, будто это булькает вода в водопроводной трубе.
Уилсон присел на кровать и перевел дух. Он оставил дверь открытой, чтобы устроить сквозняк, и ему была видна ванная комната в другом конце коридора. Там на краю ванны сидел индиец, совсем одетый и в тюрбане; он загадочно посмотрел на Уилсона и поклонился ему.
— На одну минуточку, сэр! — крикнул индиец. — Если вы соблаговолите зайти сюда…
Уилсон сердито захлопнул дверь и сделал еще одну попытку справиться с поясом.
Когда-то он видел фильм «Бенгальский улан» — так, кажется, он назывался? — где такой же пояс был вышколен на славу. Слуга в тюрбане держал его смотанным, а щеголеватый офицер вертелся волчком, и пояс ровно и туго обхватывал его талию. Другой слуга, с прохладительными напитками, стоял рядом, а в глубине покачивалось опахало. Как видно, в Индии дело поставлено куда лучше. Тем не менее еще одно усилие — и Уилсону удалось намотать на себя эту проклятую штуку. Пояс был затянут слишком туго, он лег неровными сборками, а конец оказался на животе; там его и пришлось подоткнуть на самом виду. Уилсон грустно посмотрел на свое отражение в облезлом зеркале. В дверь постучали.
— Кто там? — крикнул Уилсон, решив было, что индиец совсем обнаглел и ломится прямо в комнату. Но это оказался Гаррис; индиец по-прежнему сидел на краю ванны, тасуя рекомендательные письма.
— Уходите, старина? — разочарованно спросил Гаррис.
— Да.
— Сегодня все как будто сговорились уйти. Я буду один за столом. — Он мрачно добавил: — И как назло на ужин индийский соус!
— В самом деле? Жаль, что я не буду ужинать.
— Сразу видно, что вам не подавали его каждый четверг два года подряд. — Гаррис взглянул на пояс. — Вы плохо его намотали, старина.
— Знаю. Но лучше у меня не получается.
— Я их вообще не ношу. Это вредно для желудка. Говорят, пояс поглощает пот, но лично у меня потеют совсем другие места. Охотнее всего я бы носил подтяжки, да только резина здесь быстро преет, вот я и обхожусь кожаным ремнем. Не люблю форсить. Где вы сегодня ужинаете, старина?
— У Таллита.
— Как это вы с ним познакомились?
— Он пришел вчера в контору уплатить по счету и пригласил меня ужинать.
— Когда идут в гости к сирийцу, не надевают вечерний костюм. Переоденьтесь, старина.
— Вы уверены?
— Ну конечно. Это не принято. Просто неприлично. — Но добавил: — Ужин будет хороший, только не налегайте на сладости. Хочешь жить — себя береги. Интересно, чего ему от вас надо?
Пока Гаррис болтал, Уилсон переодевался. Он умел слушать. Мозг его, как сито, целый день просеивал всякий мусор. Сидя в трусах на кровати, он слышал: «…остерегайтесь рыбы, я к ней вообще не притрагиваюсь…» — но пропускал наставления Гарриса мимо ушей. Натягивая белые брюки на розовые коленки, он повторял про себя:
…наказанный судом суровым
Кто знает за какие там ошибки,
Чудак в свое же тело замурован…
Как всегда перед ужином, у него бурчало в животе.
Он ждет от вас лишь песни иль улыбки,
За преданность свою, за все мученья
Не смея ждать иного награжденья.
Уилсон уставился в зеркало и провел пальцами по нежной, слишком нежной коже. На него смотрело розовощекое, пухлое, пышущее здоровьем лицо — лицо неудачника.
— Я как-то говорю Скоби… — с увлечением болтал Гаррис, и слова эти немедленно застряли в сите Уилсона.
— Удивительно, как Скоби на ней женился, — подумал он вслух.
— Всех это удивляет, старина. Скоби-то ведь неплохой парень.
— Она прелестная женщина.
— Луиза? — воскликнул Гаррис.
— Конечно. А кто же еще?
— На вкус и цвет товарищей нет. Желаю успеха, старина.