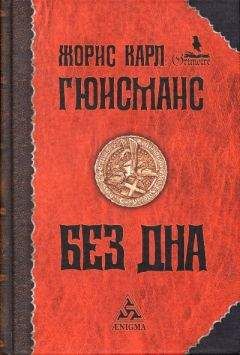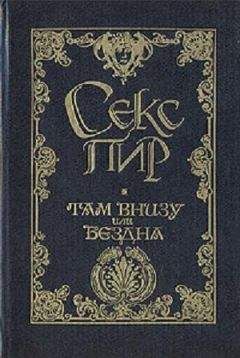Жорис-Карл Гюисманс - В пути
«Она так подходит для картины какого-нибудь из ранних фландрских мастеров», — думал Дюрталь. Вдоль мостовой тянутся этажи домов, раскрытых сверху донизу, точно шкапы. С одной стороны прочные темницы с железными постелями, каменными сосудами, маленькими потайными оконцами в дверях, с тяжелыми засовами. Внутри закоренелые злодеи скрежещут зубами, топчутся на месте, жестковолосые, воющие, словно звери в клетках. Напротив них кельи, со скудным ложем, глиняным кувшином, распятием, также запертые железом кованными дверями. А на плитах пола стоят коленопреклоненные монахи или монахини с пламенными ореолами, обрамляющими их лица, и, воздев глаза к небу, молитвенно сложив руки, в экстазе стремятся душой ввысь, рядом с расцветающей в вазе лилией.
Наконец, в глубине, между двумя вереницами домов идет вверх широкая аллея, в конце которой в небе, украшенном мелкими завитками облаков, Бог Отец восседает с Христом одесную, а хоры серафимов играют вокруг Них на лютнях и скрипках. И неподвижный Бог Отец, увенчанный высокой тиарой, с длинной бородой, покрывающей Его грудь, держит весы, чаши которых приходят в равновесие по мере того, как святые узники молитвами и покаянием своим искупают хулы злодеев и безумцев.
«Бесспорно, что эта улица, — раздумывал Дюрталь, — совершенно особенная, вероятно, даже единственная в Париже. В своем течении она объединяет добродетели и пороки, которые в других округах разветвляются обычно, несмотря на усилия церкви, как можно дальше друг от друга».
В раздумьи дошел он до святой Анны; улица сделалась еще мрачнее; дома стали ниже, одноэтажные или двухэтажные; они постепенно редели, связанные промежутками оград, штукатурка которых облупилась.
«Пусть так, — размышлял Дюрталь, — если этому концу улицы чуждо обаяние, зато в нем есть неподдельная интимность. Здесь не надо, по крайней мере, любоваться смешным убранством современных агентств, выставляющих в своих витринах отборные поленья дров и выкладывающих в хрустальные вазы куски антрацита и кокса.
А вот уличка, действительно, забавная!..» Он заметил переулок, круто спускающийся к большой улице, на которой виднелась жестяная трехцветная вывеска прачечной. Прочел название: «Улица Эбр».
Вернувшись, он убедился, что длина переулка всего несколько метров. Справа на всем протяжении тянулась стена, из-за которой выглядывало ветхое покосившееся здание с колоколом. Ворота с четырехугольной калиткой пересекали стену, прорезанную несколькими круглыми окнами, а рядом была небольшая постройка, над которой выделялась колокольня, такая низкая, что вершина ее не достигала даже высоты двухэтажного дома напротив.
На другой стороне лепились друг к другу три домика. Цинковые трубы ползли по стенам, наподобие виноградных лоз, и разветвляясь, точно стебли. Окна зияли под заржавленными свинцовыми наличниками. Угрюмые разваливающиеся лачуги чернели на пустопорожних дворах. На одном стоял навес, где дремали коровы, на двух других виднелись сарай с ручными тележками и плетюшка, из-за стенок которой торчали запечатанные горлышки бутылок.
«Да это церковь!» — догадался Дюрталь, рассматривая маленькую колокольню и три, четыре круглых оконных просвета, вырезанных как бы в картоне, на который походил черный и красноватый известняк стены. Но где же вход?
На повороте переулка он заметил крошечную паперть, которая вела в строение.
Толкнув дверь, он проник в обширное помещение, нечто вроде окрашенного в желтое сарая с низким потолком на поперечных железных брусьях, покрытых серой краской, перевитых голубыми полосами и украшенных газовыми рожками, какие бывают в винных погребах. В глубине мраморный алтарь с шестью зажженными свечами, убранный бумажными цветами и золочеными розетками и с маленькой дароносицей на жертвеннике, сверкавшей отблесками пламени свечей.
Грубо расписанные синими и желтыми красками оконные стекла едва пропускали скудный свет. Печка не топилась, и было холодно, а каменные плиты церковного пола не покрыты были ни ковром, ни половиком.
Дюрталь закутался и сел. Понемногу глаз его привык ко мраку церкви, пред ним вырисовывалась странная картина. На рядах стульев против хор застыли неподвижные фигуры, утопавшие в волнах белой кисеи.
Вдруг в боковую дверь вошла монахиня, окутанная с головы до ног большой вуалью. Она направилась вдоль алтаря, остановилась посредине, простерлась ниц, поцеловала пол и поднялась усилием одних бедер, без помощи рук. Безмолвно прошла затем в церковь и задела Дюрталя, который успел рассмотреть под вуалью роскошную мантию молочной белизны, слоновой кости крест на шее и четки у пояса.
Дойдя до входной двери, она поднялась по лесенке на кафедру, высившуюся над всем залом.
«Что это за орден в таких пышных одеждах приютился здесь в жалкой капелле этого квартала?» — недоумевал Дюрталь.
Зал наполнялся понемногу. Мальчики хора в красном, в пелеринах, отороченных кроликовым мехом, зажгли паникадила, вышли и затем ввели священника, молодого и тощего, в подержанном облачении, затканном большими узорами цветов. Он сел и суровым голосом запел первый антифон вечерни.
Дюрталь вдруг обернулся. Изумительные голоса зазвучали на трибуне, исполняя ответствия, в сопровождении фисгармонии. Казалось, что не женские голоса поют, а скорее отроческие, — лишь нежнее, закругленнее, прозрачнее в нотах верхнего регистра, — и мужские, только изысканнее, чище, утонченнее; голоса бесполые, процеженные сквозь богослужения, просеянные сквозь моления, закаленные в горниле слез и боготворений.
По-прежнему сидя, запел священник первый стих неизменного псалма: «Dixit Dominus Domino meo…» [25]
И Дюрталь увидел под сводом на трибуне высокие белые изваяния, которые медленно пели, держа в руках черные книги и воздев глаза к небу. Одна из этих фигур, на минуту освещенная лампадой, немного нагнулась, и под отогнутой вуалью он рассмотрел матово бледное лицо, выразительное и скорбное.
Чередовались строфы вечерних песнопений, исполняемых то монахинями на возвышении, то сидевшими внизу. Капелла наполнилась. Одну сторону заняли воспитанницы какого-то пансиона, в белых вуалях, другую — бедные горожанки в унылых платьях и девочки с куклами. Несколько женщин в деревянных башмаках и ни одного мужчины. Атмосфера становилась необычной. Пламя душ растопило ледяную стужу этой церкви. То не была торжественная вечерня, как служили ее по воскресеньям у Сен-Сюльпис; нет, совершалось богослужение бедняков, вечерня интимная, с сельскими напевами молитв, которым с безграничным усердием внимали верующие, сосредоточившись в тишине.
Дюрталю казалось, что он унесся куда-то вдаль, в глушь деревни, в монастырь. Он чувствовал, как душа его смягчена, убаюкана однообразной глубиной песнопений, и смену псалмов он различал лишь по припеву «Gloria Patri et Filio» [26], неизменно повторявшемуся в конце каждого псалма.
Его осенил истинный порыв, смутное желание наравне с прочими молиться Непостижимому; овеянный молитвами, до глубины души охваченный этой обстановкой, Дюрталь ощущал, как будто частица его существа откалывается от него, и он даже издали приобщается к общей нежности этих чистых душ. Желая излиться в молитве, он вспомнил слова, которым учил святой Пафнутий куртизанку Таис, восклицая: «Недостойна ты произносить имя Господне, молись лишь так: Сжалься надо мной Ты, сотворивший меня!..» Молитвенно шептал он смиренную фразу, но не любовь, не сокрушение владели им, а отвращение к самому себе, к своей неспособности отрешиться от себя, неспособности любить. Потом он задумал прочесть «Отче наш», но запнулся при мысли, что если взвешивать тщательно слова, то прочесть молитву Господню всего труднее. Не возвещаем мы разве в ней Господу, что «отпускаем должникам нашим?» А сколько действительно прощающих найдется среди тех, которые произносят эти слова? Сколько верующих не лгут, свидетельствуя перед Всеведущим, что они не знают ненависти?
Внезапное молчание церкви прервало его думы. Вечерня кончилась. Заиграла прелюдию фисгармония, и зазвучали голоса всех, запевшие древний рождественский тропарь: «Рожден есть Младенец божественный».
Он слушал, растроганный простодушием этой песни, как внезапно пробудила в нем бесстыдные воспоминания поза девочек, коленопреклоненно стоявших на скамейках.
Брезгливо сопротивляясь, он пытался оттолкнуть натиск позорных мыслей. Но безуспешно. Дюрталя вновь заполонила женщина, одурманившая его своею извращенностью.
Тело закруглялось под кружевами и шелком рубашки, и его дрожащие руки сбрасывали ненавистно пленительные покровы блудницы.
Призрак также неожиданно исчез. Взор Дюрталя бессознательно остановился на священнике, который рассматривал его, тихо что-то говоря одному из служек.