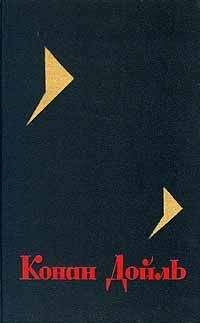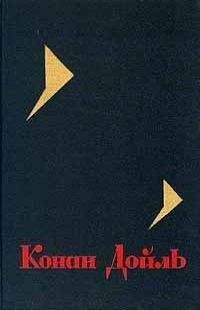Михаил Салтыков-Щедрин - Благонамеренные речи
Последние слова были сказаны тем шуточным тоном, который у мало-мальски благовоспитанного собеседника должен вызвать, по малой мере, разуверяющий простосердечный смех.
Но я, не знаю почему, вдруг покраснел.
– Фома неверующий! – воскликнул он с укором.
Затем мы сели ужинать, и он спросил шампанского. Тут же подсела целая компания подручных устроителей ополчения. Все было уже сформировано и находилось, так сказать, начеку. Все смеялось, пило и с доверием глядело в глаза будущему. Но у меня не выходило из головы: "Придут нецыи и на вратах жилищ своих начертают: "Здесь стригут, бреют и кровь отворяют"".
* * *Это была скорбная пора; это была пора, когда моему встревоженному уму впервые предстал вопрос: что же, наконец, такое этот патриотизм, которым всякий так охотно заслоняет себя, который я сам с колыбели считал для себя обязательным и с которым, в столь решительную для отечества минуту, самый последний из прохвостов обращался самым наглым и бесцеремонным образом?
Теперь, с помощью Бисмарков, Наполеонов и других поборников отечестволюбия, я несколько уяснил себе этот вопрос, но тогда я еще был на этот счет новичок.
В первый момент всех словно пришибло. Говорили шепотом, вздыхали, качали головой и вообще вели себя прилично обстоятельствам. Потом мало-помалу освоились, и каждый обратился к своему ежедневному делу. Наконец всмотрелись ближе, вникли, взвесили…
И вдруг неслыханнейшая оргия взволновала наш скромный город. Словно молния, блеснула всем в глаза истина: требуется до двадцати тысяч ратников! Сколько тут сукна, холста, кожевенного товара, полушубков, обозных лошадей, провианта, приварочных денег! И сколько потребуется людей, чтобы все это сшить, пригнать в самый короткий срок!
И вот весь мало-мальски смышленый люд заволновался. Всякий спешил как-нибудь поближе приютиться около пирога, чтоб нечто урвать, утаить, ушить, укроить, усчитать и вообще, по силе возможности, накласть в загорбок любезному отечеству. Лица вытянулись, глаза помутились, уста оскалились. С утра до вечера, среди непроходимой осенней грязи, сновали по улицам люди с алчными физиономиями, с цепкими руками, в чаянии воспользоваться хоть грошом. Наш тихий, всегда скупой на деньгу город вдруг словно ошалел. Деньги полились рекой: базары оживились, торговля закипела, клуб процвел. Вино и колониальные товары целыми транспортами выписывались из Москвы. Обеды, балы следовали друг за другом, с танцами, с патриотическими тостами, с пением модного тогдашнего романса о воеводе Пальмерстоне, который какой-то проезжий итальянец положил, по просьбе полициймейстера, на музыку и немилосердно коверкал при взрыве общего энтузиазма.
Бессознательно, но тем не менее беспощадно, отечество продавалось всюду и за всякую цену. Продавалось и за грош, и за более крупный куш; продавалось и за карточным столом, и за пьяными тостами подписных обедов; продавалось и в домашних кружках, устроенных с целью наилучшей организации ополчения, и при звоне колоколов, при возгласах, призывавших победу и одоление.
Кто не мог ничего урвать, тот продавал самого себя. Все, что было в присутственных местах пьяненького, неспособного, ленивого, – все потянулось в ополчение и переименовывалось в соответствующий военный чин. На улицах и клубных вечерах появились молодые люди в новеньких ополченках, в которых трудно было угадать вчерашних неуклюжих и ощипанных канцелярских чиновников. Еще вчера ни одна губернская барыня ни за что в свете не пошла бы танцевать с каким-нибудь коллежским регистратором Горизонтовым, а нынче Горизонтов так чист и мил в своей офицерской ополченке, что барыня даже изнемогает, танцуя с ним «польку-трамблямс». И не только она, но даже вчерашний начальник, вице-губернатор, не узнает в этом чистеньком офицерике вчерашнего неопрятного, отрепанного писца Горизонтова.
– А! Горизонтов! мило! очень, братец мой, хорошо! – поощряет вице-губернатор, повертывая его и осматривая сзади и спереди.
– Сегодня только что от портного, ваше высокородие!
– Прекрасно! очень, даже очень порядочно сшит кафтанок! И скоро в поход?
– Поучимся недели с две, ваше высокородие, и в поход-с!
– Смотри! Сражайся! Сражайся, братец! потому что отечество…
– Нам, ваше высокородие, сражаться вряд ли придется, потому – далеко. А так, страны света увидим…
И шли эти люди, в чаянье на ратницкий счет "страны света" увидать, шли с легким сердцем, не зная, не ведая, куда они путь-дороженьку держат и какой такой Севастополь на свете состоит, что такие за «ключи», из-за которых сыр-бор загорелся. И большая часть их впоследствии воротилась домой из-под Нижнего, воротилась спившаяся с круга, без гроша денег, в затасканных до дыр ополченках, с одними воспоминаниями о виденных по бокам столбовой дороги странах света. И так-таки и не узнали они, какие такие «ключи», ради которых черноморский флот потопили и Севастополь разгромили.
Шитье ратницкой амуниции шло дни и ночи напролет. Все, что могло держать в руке иглу, все было занято. Почти во всяком мещанском домишке были устроены мастерские. Тут шили рубахи, в другом месте – ополченские кафтаны, в третьем – стучали сапожными колодками. Едешь, бывало, темною ночью по улице – везде горят огни, везде отворены окна, несмотря на глухую осень, и из окон несется пар, говор, гам, песни…
А объект ополчения тем временем так и валил валом в город. Валил с песнями, с причитаниями, с подыгрыванием гармоники; валил, сопровождаемый ревущим и всхлипывающим бабьем.
– Волость привели! – молодецки докладывает волостной старшина управляющему палатой государственных имуществ, выстроив будущих ратников перед квартирой начальника.
Управляющий выходит с гостями на крыльцо и здоровкается.
– Молодцы, ребята! – кричит он по-военному, – за веру! Помнить, ребята! За веру, за царя и отечество! С железом в руке… С богом!
И вот из числа гостей выступает вперед откупщик, перекрест из жидов. Он приходит в такой энтузиазм от одного вида молодцов-ребят, что тут же возглашает:
– По царке! по две царки на каждого ратника зертвую! за веру!
– С богом! трогай! – вновь напутствует управляющий толпу, – за ве-е-ру!
"Объект" удаляется с песнями.
Знает ли он, что за «ключи» такие, ради которых перекрест из жидов жертвует ему по чарке водки на человека?
Одним словом, и на улицах, и в домах шла невообразимая суета. Но человека, постороннего делу организации ополчения, в этой суете прежде всего поражало преобладание натянутости и таинственности. Общий разговор исчез совершенно. В собраниях, в частных домах – сейчас же формировались отдельные группы людей, горячо о чем-то между собою перешептывавшихся. В виду этих групп непосвященному становилось просто неловко. На приветствие его отвечали машинально; ежели же он проявлял желание присоединиться к общему разговору, то переменяли разговор и начинали говорить вздор. Приходилось или уединиться, или присаживаться к девицам, которые или щипали корпию, или роптали на то, что в наш город не присылают пленных офицеров. По временам от которой-нибудь группы отделялся индивидуум и торопливо куда-то исчезал. Через некоторое время исчезнувший так же торопливо появлялся вновь, один или с новыми индивидуумами, и опять начинался оживленный шепот. По временам целая группа куда-то исчезала, вероятно в дом к кому-нибудь из заговорщиков, у которого можно было расположиться вольнее…
– Да что же такое происходит, наконец? – спросил я однажды Погудина, который зашел ко мне утром посидеть.
– Топка, батюшка, происходит, великая топка теперь у нас идет! – ответил он, – и богу молятся, и воруют, и опять богу молятся, и опять воруют. "И притом в самоскорейшем времени", как выразился Набрюшников.
– Неужто и Удодов тут?
– Удодов – по преимуществу. Много тут конкурентов было: и голова впрашивался, и батальонный командир осведомлялся, чем пахнет, – всех Удодов оттер. Теперь он Набрюшникова так настегал, что тот так и лезет, как бы на кого наброситься. Только и твердит каждое утро полициймейстеру: "Критиков вы мне разыщите! критиков-с! А врагов мы, с божьею помощью, победим-с!"
– А разве уж и критики появились?
– Немудрые. Какой-то писаришко анонимное письмо написал: новым Ровоамом Набрюшникова называет. Ну, какой же он Ровоам!
– Стало быть, сделка между Набрюшниковым и Удодовым состоялась?
– Нехитрая сделка: Набрюшников десять процентов себе выговорил. Тут, батюшка, сотни тысяч полетят, так ежели десять копеек с каждого рубля – сочтите, сколько денег-то будет!
– Послушайте! да не много ли десять-то процентов! Ведь ежели Набрюшникову десять процентов, сколько же Удодов себе возьмет! сколько возьмут его агенты!
– Все возьмут, да еще увидите, что и "благоразумная экономия" будет. А впрочем, знаете ли, что мне приходит на мысль: Удодов поглядит-поглядит, да и заграбит все сам. А Набрюшникова на бобах оставит!