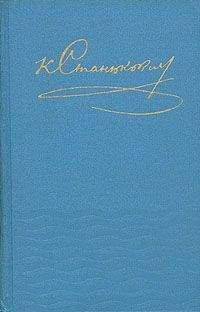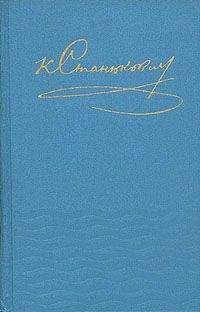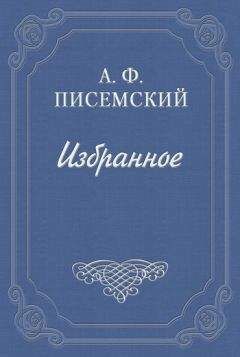Любовь Овсянникова - Вершинные люди
Но теперь мы распрощались с Красной школой и перешли заниматься в Двухэтажную школу, где наш класс располагался на первом этаже в угловой восточной комнате.
Двухэтажная школа — напомню, что это было здание бывшей синагоги, — тоже имела удобное расположение по месту и даже довольно просторный двор с травкой и небольшим сквером. Но главная спортивно-оздоровительная территория располагалась за пределами двора, на обширной площади перед воротами. Здесь, вдоль забора, обозначенного штакетником и аккуратным живоплотом из подстриженной кустарниковой робинии, стояли бум, турник и качающийся деревянный шест, закрепленный где-то вверху, по которому мы лазили вверх и съезжали вниз и на котором просто качались. Я не знаю, как точно назывался этот снаряд. Чуть дальше от них, параллельно забору, проходила дорога, собственно она представляла собой подъезд к этому зданию со стороны центральной площади села. Возможно, когда-то дорога была тупиковой, заканчивалась у ворот здания, но теперь она пересекала наши владения и в виде переулка выходила на следующую улицу. А еще дальше от ворот школы, за этой дорогой, располагались наши спортивные поля: волейбольное, баскетбольное и даже футбольное — последнее в уменьшенном масштабе.
Конечно, нам напоминали, что мы уже стали постарше, учимся в средних классах, где преподается много сложных предметов разными учителями, и должны быть степеннее, вести себя сдержанно и подавать пример малышам. Нам даже в классные руководители определили мужчину — Пивакова Александра Григорьевича, неулыбчивого, немого язвительного человека, строгого в общении. Но шли только первые дни новой жизни, и мы не успели отвыкнуть от беготни, шалостей и не привыкли думать о новых предметах. Малыши, которым нужен был наш пример, остались в Красной школе, а тут мы снова были самыми младшими. Короче, мы пока еще ни в чем не изменились. На каждой перемене мы все так же, словно пчелиный рой, вылетали на улицу и затевали догонялки.
Так было и в тот раз, о котором я хочу рассказать.
После первого урока прозвенел звонок на перемену, и ученики, толкаясь в дверях, устремились на улицу. Как раз в это время на дорогу, проходящую вдоль школы, выткнулась пароконная телега, направляющаяся из переулка в сторону больницы. Та внезапность и стремительность, с которой ученики возникли на ее пути, шумной гурьбой вывалившись из школьных ворот, тот ор и галдеж, которые они там учинили, наверное, превзошли мыслимые пределы, и кони испугались. Ошарашенные неожиданностью, они даже остановились, затем заржали, встали на дыбы, и вдруг рванули с места и понесли. Конечно, за криками школьников их ржания никто и не услышал. Да и то, что кони безумно ринулись прямо на кучу мечущихся тел, сами дети, занятые играми друг с другом, заметить не могли. Я в числе более спокойных учеников стояла у школьных ворот и видела эту картину со стороны. Кажется мне, что рядом даже были учителя. Но все случилось просто молниеносно, и выполнить какие-то осмысленные действия не представлялось возможным. Только возница вмиг подхватился на ноги и пытался натянуть вожжи так, чтобы остановить лошадей. При этом он кричал детям, чтобы они разбегались.
— Уходи! — слышу и сейчас я его зычный голос. — Кони понесли! Уходи!
Жилы на руках и шее возницы вздулись, и, казалось, начали трещать и рваться, его искривленный в нечеловеческом крике рот можно было лепить в глине, резать в камне, как образ отчаянного самообладания в последней попытке спасти положение. Но толку от усилий, что он предпринимал, не было. Кони только с большим напряжением выворачивали шеи набок, храпели и фыркали, но не сбавляли скорость.
Сложность ситуации заключалась в том, что свернуть вознице было некуда: справа от него был ряд спортивных снарядов, врытых в землю, а за ними шел двойной забор со штакетником и живоплотом; а слева кругом бегали школьники. Оставалось одно: остановить лошадей. Но на это требовалась хотя бы достаточная дистанция. А тут до скопления детей оставалось каких-то двадцать-тридцать метров.
— Тпрууу! Спокойно, милые! — обращался к своим верным служителям ездовой, но они его тоже не слышали.
На коней не только страшно, но и жалко было смотреть. Невероятно изогнувшись от натянутых ремней, рвущих им брылы удилами, вывернув головы в стороны, они мчались, не видя дороги, от чего их испуг только усиливался. Наполненные паникой, округлившиеся их глазищи к тому же дико косили в попытке выровнять взгляд и видеть, куда ступают ноги. Глаза были неописуемо страшные — не кровью жизни наполненные, а синью смерти; искаженные не жаждой спасения, а мукой агонии. А во взгляде сквозили паника и обреченность.
К счастью, возница оказался опытным, и не потерял самообладания. Он тут же сообразил, что с помощью имеющихся у него средств управления остановить коней не удастся, вместо этого им надо оставить возможность ориентироваться по местности, видеть пространство впереди себя. И он чуток попустил вожжи. Как бы ни были охвачены кони страхом, но они не замедлили уловить эту толику свободы, и, кажется, даже вздохнули. Кони выпрямили шеи и подняли их выше, стараясь фыркать мокрым воздухом, вырывающимся из ноздрей, поверх толпы, скучившейся на их пути. Из глаз коней ушла синева, и они наполнились розовой прозрачной слезой, живой и дрожащей.
Еще бы чуток пространства, метров бы двадцать, и умные кони сами остановились бы. Но не было этих метров. А была орава ни о чем не подозревающих, радующихся возможности порезвиться детей.
Конечно, мы, кто стоял в стороне, перекашивая рты, тоже кричали, махали руками, куда-то показывали. Но главную спасительную вещь, кроме самих лошадей, сделала, конечно, земля: от топота ног и от грохотания телеги она задрожала, передавая ту дрожь по ближайшей поверхности, и взвихрилась неимоверной пылью, разбросала во все стороны брызги мелких камней. Всеми этими явлениями земля посылала зазевавшимся детям сигнал тревоги, впрыскивала в них остуду. И словно случился порыв ветра, от которого дети очнулись.
Многие успели убежать из опасной зоны. А на остальных налетели кони. Но что это были за чудные кони! Несясь во всю прыть, как мастерски лавировали они, как умело двигались, спасая детей! Одного выбросили с дороги головой, другому поддали под зад вынесенной вперед ногой, третьего лягнули задней ногой и отшвырнули подальше, четвертого столкнули с дороги крупом, и так далее. Этому можно только удивляться, но не пытаться передать словами. Кони идеально расчищали себе дорогу среди мешанины маленьких человечков, практически никому из них не повредив.
Только Люба осталась под их ногами. И кони ничего изменить не могли. Ее сбили с ног во время игры, и она уже не успевала подняться.
— Лежать!!! — нечеловечески закричал ездовой, и Люба прижалась к земле. — Не шевелись!!!
Она лежала на спине, поджав ноги, чтобы закрыть живот, и защищая руками грудь. Только лицо оставалось открытым, сверкая широко распахнутыми глазами. А кони уже были над ней. И то ли они немного успокоились, после того как удила перестали чрезмерно впиваться в их рты и гнуть им шеи, то ли есть в лошадях божий дух, человеколюбивый, не знаю. Но, оказавшись над Любой, они уже не бежали, как прежде — они словно танцевали, поднимая и опуская ноги так, чтобы под копытом не оказалась поверженная девочка. Только раз какой-то из лошаденок не удалось сманеврировать, и она, оттолкнувшись от земли и поднимая ногу, черкнула по Любиной верхней губе.
Метров через несколько кони остановились. Бедный возница, чувствующий невольную вину свою, попытался на руках отнести Любу в больницу.
— Я сама дойду, — произнесла Люба, после чего свидетели этой драмы заулыбались: раз человек мыслит и говорит, значит, он жив!
— Кони понесли, — оправдывался ездовой, не зная, куда деть огрубевшие в работе руки.
— Вы не виноваты, — Люба взяла мужчину за руку: — Пойдемте, вам тоже нужна помощь.
Так я их и запомнила: крошечную девочку с огромными бантами в тоненьких косичках и тщедушного мужичка в измятом простом пиджаке и брюках, заправленных в кирзаки. Прижавшись боками, дрожа от перенесенного напряжения, что было видно даже по их спинам, они бережно вели друг друга в больницу, поддерживая руками. Учителя шли сзади, не решаясь нарушать единение этих двух людей, в страшную минуту, словно ставших одним организмом, которые проявили не только волю к жизни, взаимопонимание, но и мужество.
В больнице Любу долго не задержали, уже назавтра она пришла на уроки с зашитой верхней губой, немного вялая от перенесенного испуга, личико ее покрывало несколько синих пятен от ушибов. Казалось бы, все обошлось.
Но ничто не проходит бесследно. Позже Любе отольется этот страх. Да и я вот уже свыше половины века помню о нем.
Впрочем, как помню с тех пор и о благородстве и уме лошадей, их преданности человеку. И горжусь, что символом поэтического вдохновения, этого высокого и чистого состояния души, стал именно Пегас, конь — настоящее чудо природы с крылатой душой.