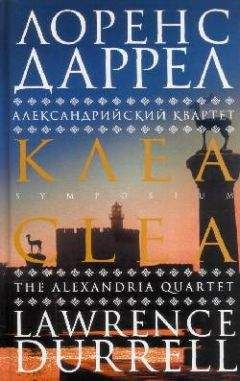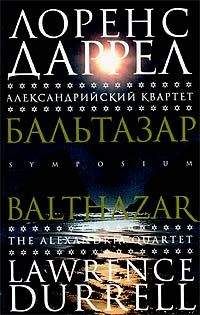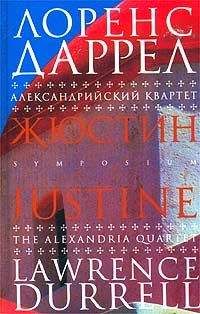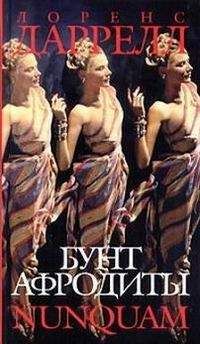Лоренс Даррел - Маунтолив
«Ты говоришь, что через месяц будешь в Загребе. Пожалуйста, напиши мне о тамошнем…» — писала она ему, или еще: «Как удачно, что поедешь именно через Амстердам; там как раз сейчас ретроспектива Клее — во французской прессе отзывы просто потрясающие. Пожалуйста, сходи туда и опиши мне свои впечатления, только честно, даже если тебе совсем не понравится. Сама я подлинников никогда не видела». Такова была теперь любовь Лейлы — пародия на страсть, умственный флирт, — да и партнеры поменялись ролями; она, отлученная от сокровищ Европы, с удвоенной жадностью набрасывалась на его длинные письма и на посылки с книгами. Поначалу Маунтолив напрягал все силы, чтобы угнаться за ней, но мало-помалу двери, прежде запертые для него, отворились — живопись, архитектура, литература, музыка. Она дала ему неплохое образование, и почти бесплатно, в тех областях, до которых у него иначе просто руки бы не дошли, да и не хватило бы смелости взяться. И там, где медленно таяла прежняя, поношенная привязанность, росла привязанность совсем иного рода. Маунтолив любил ее всей душой — в прямом смысле слова, ибо душа его была ее произведением.
Прежде он ее любил, теперь он восхищался ею; также и физическая тяга к ней (столь мучительная поначалу) понемногу переродилась в глубокую безотчетную нежность, которая именно в самой невозможности обладания любимым телом и черпала уверенность и силу. Через несколько лет она уже могла себе позволить написать ему: «Мне почему-то кажется, что я ближе к тебе сейчас, на бумаге, чем тогда, за день до расставания. Почему так?» Вопрос был чисто риторический. Она знала почему. И все же добавила следом, для пущей честности:
Может, есть в моем чувстве что-то нездоровое! Со стороны это может показаться сентиментальностью, а то и чудачеством — как знать? И все наши долгие, долгие письма, Дэвид, — не та же ли в них сладкая горечь, что в странном романе Сансеверины с ее племянником Фабрицио? Мне часто думается: они были любовниками — столько в них страсти, и они так близки друг другу. Стендаль ничего не говорит наверное. Хотела бы я узнать Италию поближе. Ну что, совсем твоя любовница состарилась, этакая тетушка, да? Не отвечай, даже если знаешь ответ. И все же хорошо, что мы оба одиночки и в душах наших сплошь обширные белые пятна — как на ранних картах Африки, — и притом нужны друг другу. Я имею в виду, ты единственный сын в семье, и у тебя нет никого, кроме матери, я же — конечно, мне есть о ком подумать, но моя здешняя клетка уж очень тесна. Твой рассказ о балерине и о твоем романе с ней позабавил меня и тронул; спасибо, что ты мне рассказал об этом. Осторожней, дорогой мой друг, не поранься всерьез.
Они уже настолько верили друг другу, что он мог посвятить ее в детали нескольких своих увлечений: романа с Гришкиной, едва не закончившегося скоропалительной женитьбой; несчастливой страсти к любовнице посла, повлекшей за собой дуэль и едва ли не опалу. Если она и чувствовала ревность, то никак ее не выказывала, и письма ее, как всегда, были полны самой нежной привязанности и, если нужно было, — утешений и дельных советов. Они были искренни друг с другом, более того, она порой едва ли не шокировала его своей откровенностью; подобного рода излияния люди обычно доверяют бумаге в том лишь случае, когда им не с кем поговорить. Так, она написала однажды:
Вот я и говорю тебе, я просто остолбенела, когда из зеркала вдруг выплыло мне навстречу обнаженное тело Нессима, и стройный белый торс, совсем как у тебя, и чресла. Я тут же села и, к удивлению своему, разрыдалась, как дура, мне вдруг на минуту почудилось — а не происходит ли моя страсть к тебе из сумеречных глубин подсознания, оттуда, где инцест не грех, а желанная норма; я ведь почти не вхожа в капище секса, которое тамошние ваши доктора теперь взялись изучать с таким рвением. Их открытия вселяют в меня дурные предчувствия. Еще я подумала, а нет ли во мне чего-то от вампира, я ведь всегда с тобой, повсюду, близко, я тяну тебя за рукав, хотя, должно быть, ты уже давно перерос меня. Как тебе кажется? Напиши и убеди меня в обратном, Дэвид, в перерыве между поцелуями малышки Гришкиной, ладно? Вот, посылаю тебе последнее мое фото, чтобы ты мог судить, насколько я постарела. Покажи карточку ей и скажи, что я ничего так не боюсь, как ее необоснованной ревности. Один только взгляд — и она успокоится. Да, чуть не забыла поблагодарить тебя за телеграмму ко дню рождения; когда я читала ее, у меня вдруг встал перед глазами старый полузабытый образ — ты сидишь на балконе и беседуешь с Нессимом. Он теперь такой богатый, такой независимый, что почти и не дает себе труда приезжать к нам хотя бы изредка. Слишком занят великими делами города. И все же… ему тоже меня не хватает, чего и тебе желаю; это сильней, чем если бы мы жили вместе. Мы с Нессимом часто пишем друг другу, и помногу; ум хорошо, а два лучше, вот мы и дублируем наши роли, не мешая, однако, сердцам и душам нашим любить и расти по раздельности. Он — тот самый человек, с чьею помощью мы, копты, в один прекрасный день вернем все то, что потеряли здесь, в Египте, — ну, да хватит об этом…
Продуманные, взвешенные, не без толики мягкого юмора фразы, беглый размашистый почерк по разноцветной почтовой бумаге, он читал их, с нетерпением вскрыв конверт где-нибудь в саду забытой Богом дипломатической миссии, и в голове его наполовину был уже готов ответ, который нужно было успеть написать и отправить с очередными исходящими. От этой дружбы он зависел безраздельно и начинал, как с даты, со слов «Любовь моя» письма, где речь шла исключительно, к примеру, об искусстве, или о любви (его любви), или о жизни (его жизни).
Он тоже, со своей стороны, был скрупулезнейшим образом честен с ней — и мог написать, например, о своей балерине:
Честное слово, одно время я даже всерьез собирался жениться на ней. Конечно, я был очень влюблен. Видишь ли, ее язык, мне совершенно непонятный, с успехом скрывал от меня ее посредственность. К счастью, она рискнула пару раз пофамильярничать со мной на людях, да как еще! Однажды весь их балет был приглашен на прием, и я сел с нею рядом, в надежде, что она станет вести себя с должной осмотрительностью, поскольку никто из моих коллег не знал о нашей связи. Вообрази их удивление — и мои чувства, — когда за ужином она вдруг провела рукой по моему затылку и взъерошила волосы — этакая грубоватая крестьянская ласка! Мне это пошло на пользу. Я вовремя понял, что к чему, и даже когда дело дошло до пресловутой ее беременности — хитрость была уж чересчур прозрачна. Я выздоровел.
Они расстались, и Гришкина обидела его, бросив ему напоследок: «Ты всего-то навсего дипломат. У тебя нет ни убеждений, ни веры!» За разъяснениями столь туманных обвинений он обратился, конечно же, к Лейле. И кто еще, как не Лейла, обсудил бы с ним все возможные в данном случае тонкости с той самой веселой нежностью, что всегда наготове у бывших любовниц.
Так, осторожно и умно, она вела его под руку до тех пор, покуда юношеской его неуклюжести не пришла на смену зрелость, мужской вариант ее собственной зрелости. Они говорили всего лишь на окраинном диалекте любви, но ей и того хватало, он же поглощен был полностью; вот только ни классифицировать, ни анализировать эти чувства он был не в состоянии.
И с ходом лет, со сменою постов перед глазами Лейлы вставали живые краски и сколки жизни тех стран, что, подобно кадрам на экране, просматривал не торопясь Маунтолив. Япония в звездах цветов сакуры, с крючковатым носом Лима. И никогда — Египет, несмотря на все его просьбы о назначении в должности, готовые вот-вот освободиться или уже вакантные. Казалось, Foreign Office никогда не простит ему того, что он выучил арабский, и словно бы даже нарочно его отправляли туда, откуда съездить в отпуск в Египет было либо очень трудно, либо и вовсе невозможно. Но все же связь не прерывалась. Он дважды встречался в Париже с Нессимом — и не более того. Они разошлись, очарованные друг другом, и каждый — собственной своей светскостью.
Со временем обида притупилась, он смирился. Его профессия, где ценятся лишь хладнокровие, сдержанность и способность трезво мыслить, преподала ему урок самый трудный и самый вместе с тем негодный — никогда не высказывать вслух уничижительных суждений. А кроме того — нечто вроде долгой, вполне иезуитской школы самообмана, наделившей его способностью являть миру поверхность раз от разу все более яркую и гладкую, не прилагая при том усилий к иному, внутреннему росту. И если индивидуальное начало не было выхолощено в нем окончательно, то исключительно благодаря Лейле; ибо коллеги его, сплошь сикофанты и карьеристы, сумели бы научить его разве что оттенкам обращения с разного рода начальством и маленьким, трудолюбиво услужливым знакам внимания, которые, при благоприятном стечении обстоятельств, могли бы подготовить почву для очередного продвижения по службе. Его настоящая жизнь стала подземным потоком, похороненным в базальтовой толще и только лишь иногда, невзначай способным выйти на поверхность, в насквозь искусственное бытие дипломата, — так задыхается понемногу кошка, застрявшая в вытяжной трубе. Был ли он счастлив или несчастлив? Он уже и сам не знал. Он был один, только и всего. Несколько раз, с подачи Лейлы, он пытался утешиться в своем принципиальном и безвыходном одиночестве (которое и впрямь начинало понемногу перерастать в эгоизм), просто-напросто женившись. Вот только окруженный постоянно самыми что ни на есть подходящими для данной цели молодыми особами, он тем не менее пришел к выводу, что женщины, способные по-настоящему заинтересовать его, либо все уже замужем, либо же много старше, чем он. Иностранки к рассмотрению не принимались, ибо даже и в те времена смешанный брак мог стать препятствием для карьеры. В дипломатии, как и везде, есть браки правильные и неправильные. Но время шло, и мало-помалу, благодаря мучительному круговороту сей таинственной спирали — и тяжелой работе, и множеству маленьких хитростей и компромиссов, — он подбирался все ближе к узким коридорам дипломатического могущества: к рангу советника или посла. И вот в один прекрасный день давно уже забытый и похороненный за давностью лет мираж воскрес, восстал во всей красе и славе, сияющий и осязаемый; в один прекрасный день он проснулся, чтобы узнать: заветная литера «К» теперь его, и, сверх того, он получил подарок еще более желанный — долгожданную должность посла в Египте…