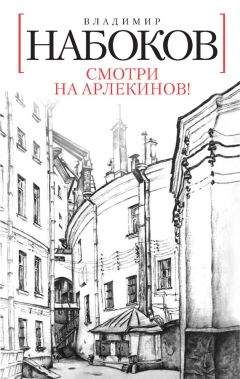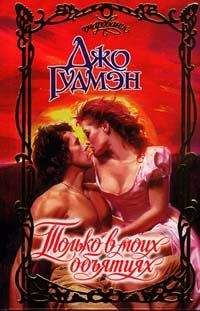Сергей Ильин - Смотри на арлекинов!
Лишь проецируя эти стилизованные образы на экран моего сознания, мог я умерить муку обращенной на призраков сладострастной ревности. И однако ж, нередко я уступал ей по собственной воле. Высокое окно моего кабинета на вилле Ирис выходило на тот же крытый красной черепицей балкон, что и окно ее спальни; приоткрыв, створку удавалось установить под углом, дававшим два разных, сплавленных вида. Стекло косо улавливало за монастырскими сводами, ведшими из комнаты в комнату, часть ее постели и тела – прическу, плечо, – которых иначе я бы не смог углядеть от старинной конторки, за которой писал; но в нем содержалась еще, казалось, только вытяни руку, зеленая существенность сада и шествие кипарисов вдоль его боковой стены. Так, откинувшись наполовину в постели, наполовину в бледном и жарком небе, она писала письмо, распяв его на моей шахматной доске, на той, что поплоше. Я знал, что задав вопрос, услышу: “Так, давней школьной подружке” или “Ивору”, или “Старушке Купаловой”, и знал, что так или иначе письмо достигнет почтовой конторы на дальнем конце аллеи платанов без того, чтобы я повидал имя на конверте. Но я позволял ей писать, и она уютно плыла в спасательном поясе из подушек над кипарисами и оградою сада, а я неустанно исследовал – безжалостно, безрассудно, – до каких темных глубин достанет щупальце боли.
11
Русские уроки Ирис большей частью сводились к тому, что она относила мои стихи или опыты в прозе какой-нибудь русской даме – мадемуазель Купаловой или мадам Лапуковой (ни та ни другая английского толком не знала) и получала устный пересказ на своего рода домодельном воляпюке. Когда я указывал Ирис, что не стоит попусту тратить время на такую пальбу наугад, она измышляла еще какой-нибудь алхимический метод, который мог бы позволить ей прочесть все, мною написанное. Я уже начал тогда (1925) мой первый роман (“Тамара”), и она, лестью выманив у меня экземпляр первой главы, только что мной отпечатанной, оттащила его в агентство, промышлявшее французскими переводами практических текстов вроде прошений и отношений, подаваемых русскими беженцами разного рода крысам, в крысиные норы различных “комиссарьятов”. Человек, взявшийся представить ей “дословное переложение”, которое она оплатила “в валюте”, продержал типоскрипт два месяца и, возвращая, предупредил, что моя “статья” воздвигла перед ним почти неодолимые трудности, “будучи написанной идиоматически и слогом, совершенно непривычным для рядового читателя”. Так безымянный кретин из горемычной, гремучей и суматошной конторы стал моим первым критиком и переводчиком.
Я и знать не знал об этой затее, пока в один прекрасный день не застукал Ирис наклоняющей каштановые кудри над листками, почти пробитыми люто лиловыми буковками, покрывавшими их без какого-либо подобья полей. В те дни я наивно противился любым переводам, частью оттого, что сам пытался переложить на собственный мой английский два или три первых моих сочинения и ощутил в итоге болезненное отвращение – вместе с безумной мигренью. Ирис, с кулачком у щеки и с глазами, в истомленном недоумении бегущими по строкам, подняла на меня взор – несколько отупелый, но с проблеском юмора, не покидавшего ее и в самых нелепых и томительных обстоятельствах. Я заметил дурацкий промах в первой строке, младенческое гугуканье во второй и, не затрудняясь дальнейшим чтением, все разодрал, – что не вызвало в моей неудачливой душечке никакого отклика, только безропотный вздох.
Дабы возместить себе недоступность моих писаний, она решила сама стать писательницей. С середины двадцатых годов и до конца своей краткой, зряшной, необаятельной жизни моя Ирис сочиняла детективный роман в двух, трех, четырех последовательных вариантах, в которых интрига, лица, обстановка, словом, все непрестанно менялось в помрачительных вспышках отчаянных вымарок – все, за исключеньем имен (из коих я ни одного не запомнил).
У нее не только напрочь отсутствовал литературный талант, ей не доставало и сноровки, чтобы подделаться под малую толику одаренных авторов из числа процветавших, но эфемерных поставщиков “детективного чтива”, которое она поглощала с неразборчивым жаром образцового узника. Но как же тогда моя Ирис узнавала, что ей переменить, что выкинуть? Какой гениальный инстинкт велел ей уничтожить целую груду черновиков в канун, да, в сущности, в самый канун ее внезапной кончины? Только одно и могла представить себе эта странная женщина (причем с пугающей ясностью) – алую бумажную обложку идеального итогового издания, с которой волосатый кулак злодея тыкал пистолетообразной зажигалкой в читателя, коему, разумеется, не полагалось догадываться, пока не перемрут все персонажи, что это и впрямь пистолет.
Позвольте мне привести наугад несколько вещих мгновений, до времени ловко замаскированных, незримых в узорах семи зим.
В минуту затишья на великолепном концерте (мы не сумели купить на него смежных мест) я заметил, как Ирис радушно раскланивается с тускловолосой и тонкогубой дамой; я ее точно где-то встречал и очень недавно, но сама незначительность ее облика не позволяла уловить смутного воспоминания, а Ирис я так о ней и не спросил. Ей предстояло стать последней наставницей моей жены.
Всякий автор при выходе первой книги верует, что те, кто ее похвалил, – суть его личные друзья или безликие, но благородные радетели, на хулу же способны лишь завистливый прощелыга да пустое ничтожество. Без сомнения, мог бы и я впасть в подобное заблуждение по части разборов “Тамары” в периодических русскоязычных изданиях Парижа, Берлина, Праги, Риги и иных городов, но я к тому времени уже погрузился во второй мой роман – “Пешка берет королеву”, а первый в моем сознании ссохся до щепотки разноцветного праха.
Издатель “Patria”[34], эмигрантского ежемесячника, в котором стала выпусками печататься “Пешка”, пригласил “Ириду Осиповну” и меня на литературный самовар. Упоминаю об этом единственно потому, что то был один из немногих салонов, до посещенья которых снисходила моя несходчивость. Ирис помогала приготовлять бутерброды. Я покуривал трубку и наблюдал застольные повадки двух крупных романистов и трех мелких, одного крупного поэта и пяти помельче, обоих полов, а также одного крупного критика (Демьяна Базилевского) и девяти маленьких, включая неподражаемого “Простакова-Скотинина”, прозванного так его архисупостатом Христофором Боярским.
Крупного поэта, Бориса Морозова, похожего на дружелюбного медведя, спросили, как прошел его вечер в Берлине, и он ответил: “Ничево”, и затем рассказал смешную, но не запомнившуюся историю о новом председателе Союза русских писателей-эмигрантов в Германии. Дама, сидевшая рядом со мной, сообщила, что она без ума от вероломного разговора между Пешкой и Королевой – насчет мужа, – неужели они и вправду выбросят бедного шахматиста из окна? Я ответил, что вправду, но не в ближайшем выпуске и впустую: он будет жить вечно в сыгранных им партиях и во множестве восклицательных знаков, рассыпаемых будущими комментаторами. Я также слышал – слух у меня почти под стать зрению – обрывки общего разговора, например, пояснительный шепот из-под руки: “Она англичанка” – за пять стульев от меня.
Все эти пустяки навряд ли стоили б записи, когда бы они не служили привычным фоном для всякой подобной сходки изгнанников, по которой там и сям, среди пересудов и цеховой болтовни, просверкивала некая вешка – строчка Тютчева или Блока, приводимая походя, с привычной набожностью, – вечно сущей, неведомой иным высоты искусства, украшавшего печальные жизни внезапной каденцией, нисходившей с нездешних небес, сладостью, славой, полоской радуги, отброшенной на стену хрустальным пресс-папье, которого мы никак не отыщем. Вот чего была лишена моя Ирис.
Но возвратимся к пустякам: помню, я попотчевал общество одним из прочетов, замеченных мной в “переводе” “Тамары”. Предложение “виднелось несколько барок” превратилось в “la vue était assez baroque”[35]. Выдающийся критик Базилевский пожилой, коренастый блондин в мятом коричневом костюме, заколыхался в утробном весельи, – но радостное выражение вскоре сменилось подозрительным и недовольным. После чая он въелся в меня, хрипло настаивая, что я выдумал этот пример оплошного перевода. Помню, я ответил, что если на то пошло, я мог бы с тем же успехом выдумать и его самого.
Когда мы не спеша возвращались домой, Ирис пожаловалась, что ей никак не удается замутить стакан чаю с одной только ложки поднадоевшего малинового варенья. Я сказал, что готов примириться с ее умышленной отчужденностью, но умоляю оставить привычку объявлять à la ronde[36]: “Пожалуйста, не стесняйтесь меня, мне нравится звук русской речи”. Вот это уже оскорбление, – все равно, как сказать автору, что книга его неудобочитаема, но отпечатана превосходно.