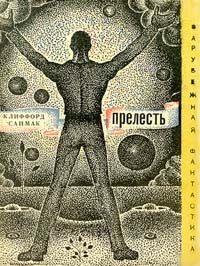Редьярд Киплинг - Собрание сочинений. Том 5. Наулака. Старая Англия
Когда он убедился, что взору его никогда больше не представится благословенный вид белого человека, а уши никогда не услышат звука понятной речи, повозка прокатилась по ущелью между двумя горами и остановилась перед станцией. Это был двойной куб из красного песчаника, но — и за это Тарвин был готов заключить его в свои объятия — полный белыми людьми. Они были донельзя легко одеты; они лежали в длинных креслах на веранде; между креслами стояли поношенные чемоданы из телячьей кожи.
Тарвин сошел с повозки, с трудом разминая свои длинные ноги. Он представлял собой маску из пыли — пыли, засыпавшей его сильнее, чем песчаный смерч или циклон. Она уничтожала складки в его одежде и обратила его американский плащ из желтоватого в жемчужно-белый. Она уничтожила разницу между краем его брюк и верхушкой башмаков. Она падала и катилась с него, когда он двигался. Его горячее восклицание «Слава Богу!» замерло в пыльном кашле. Он вошел на веранду, протирая болевшие глаза.
— Добрый вечер, джентльмены, — сказал он. — Нет ли чего-нибудь выпить?
Никто не встал, только громко крикнули слугу. Человек в желтой шелковой одежде, сидевшей на нем, как шелуха на засохшем колосе, кивнул ему головой и лениво спросил:
— Вы от кого?
— Вот как? Неужели они бывают и здесь? — мысленно сказал себе Тарвин, узнавая в этом коротком вопросе всемирный лозунг коммерческого путешественника.
Он прошел вдоль длинного ряда сидевших, пожимая руку каждого в порыве чистой радости и благодарности, прежде чем начал сравнивать Восток с Западом и спросил себя, могут ли эти ленивые, молчаливые люди принадлежать к той же профессии, с которой он делился рассказами, удобствами и политическими мнениями в курительных вагонах и гостиницах в продолжение многих лет. Конечно, это были униженные, унылые пародии тех живых, надоедливых, веселых, бесстыдных животных, которых он знал под названием коммивояжеров — странствующих приказчиков. Но, может быть, — боль в спине навела его на эту мысль — они дошли до такого печального упадка, благодаря путешествию в местных экипажах?
Он сунул нос в двенадцатидюймовый стакан виски с содовой и оставил его там, пока ничего не осталось, потом упал на свободный стул и снова оглядел группу сидевших людей.
— Кто-то спросил от кого я?.. Я здесь сам по себе, путешествую, как, полагаю, и многие другие, — ради удовольствия.
Он не успел насладиться нелепостью своих слов, как все пятеро разразились громким смехом, смехом людей, давно уже далеких от веселья.
— Удовольствие! — крикнул кто-то. — О, Господи Боже мой! Удовольствие! Вы не туда попали!
— Хорошо, что вы приехали ради удовольствия. Не то бы умерли, если бы приехали ради дела, — заметил другой.
— Это все равно, что вызвать кровь из камня. Я здесь больше двух недель.
— По какому делу? — спросил Тарвин.
— Мы все здесь больше недели, — проворчал третий.
— Но какое у вас дело? За чем вы гонитесь?
— Вы, вероятно, американец, не так ли?
— Да, Топаз, Колорадо. — Это заявление не произвело никакого впечатления. Он мог бы с одинаковым успехом говорить по-гречески. — Но в чем же дело?
— Видите ли, местный король женился вчера на двух женах. Слышите, как звучат гонги в городе? Он пробует образовать новый кавалерийский полк для службы правительству Индии, и он поссорился со своим политическим резидентом. Целых три дня я провел у дверей полковника Нолана. Он говорит, что ничего не может поделать без разрешения высшей государственной власти. Я пробовал поймать государя, когда он отправлялся на охоту на кабанов. Я пишу каждый день премьер-министру, когда не объезжаю город на верблюде, а вот тут пачка писем от фирмы с вопросами, почему я не собираю денег.
Через десять минут Тарвин стал понимать, что перед ним полинялые представители полудюжины калькуттских и бомбейских фирм, которые безнадежно осаждают это место во время своей регулярной весенней кампании, чтобы собирать кое-что по счетам раджи, который заказывал пудами, а платил очень неохотно. Он покупал ружья, несессеры, зеркала, украшения для камина, блестящие стеклянные шарики для елки, упряжь, фаэтоны, четверки лошадей, флаконы с духами, хирургические инструменты, канделябры и китайский фарфор дюжинами, сотнями, десятками, смотря по его королевской фантазии. Когда у него пропадал интерес к покупкам, сделанным им, то вместе с тем утрачивался и интерес к уплате за них; а так как мало что занимало его испорченную фантазию более двадцати минут, то иногда случалось, что было достаточно самого факта покупки, и драгоценные тюки из Калькутты оставались нераскрытыми. Мир, предписанный Индийской империи, запрещал ему подымать оружие против своих собратьев-государей и воспользоваться единственным наслаждением, известным ему и его предкам в течение тысячелетий; но оставался несколько измененный вид войны — борьба с получателями по векселям. С одной стороны, стоял политический резидент, помещенный тут, чтобы учить его, как хорошо править и, главное, экономии; с другой — то есть у ворот дворца — всегда можно было найти коммивояжера, чувства которого разрывались между презрением к неаккуратному должнику и свойственным англичанам благоговением перед государем. Его величество выезжал насладиться охотой на кабанов, скачками, обучением своей армии, заказами новых ненужных вещей и, временами, управлением своим женским персоналом, которому — гораздо более, чем премьер-министру, — были известны притязания всякого коммивояжера. За резидентом и коммивояжерами стояло правительство Индии, ясно отказывавшееся гарантировать уплату долгов государя и время от времени посылавшее ему на голубой бархатной подушке осыпанные драгоценными камнями знаки какого-нибудь имперского ордена, чтобы подсластить замечания политического резидента.
— Надеюсь, что вы заставляете его платить за все это? — сказал Тарвин.
— Каким образом?
— Ну, в вашей стране, когда покупатель глупит, обещая встретиться с продавцом в такой-то день, в такой-то гостинице и не показывается, потом обещает зайти в магазин и не платит, продавец говорит себе: «Отлично! Если желаете платить по счетам за мое жилье, за вино, ликеры и сигары, пока я дожидаюсь уплаты, — сделайте одолжение. Я как-нибудь убью здесь время». А на следующий день он представляет ему счет за проигрыш в покер.
— А, это интересно. Но как же он записывает на счет эти расходы?
— Конечно, они входят в следующий счет на проданные товары. Он там поднимает цены.
— Это мы сумеем сделать. Трудность состоит в том, чтобы получить деньги.
— Не понимаю, как это у вас хватает времени на то, чтобы киснуть здесь, — убеждал удивленный Тарвин. — Там, откуда я приехал, каждый путешествует по расписанию и если опоздает на один день, то телеграфирует покупателю в следующем городе, чтобы он пришел встретить его на станцию, и продаст ему товары, пока стоит поезд. Он мог бы продать всю землю, пока ваша повозка пройдет милю. А что касается денег, то отчего вы не арестуете старого грешника? На вашем месте я наложил бы арест на всю страну. Я наложил бы запрещение на дворец, даже на корону. Я достал бы исполнительный лист на него и представил бы его — лично, если бы это потребовалось. Я запер бы старика и стал бы сам управлять Раджпутаной, если бы пришлось, но деньги я получил бы.
Сострадательная улыбка пробежала по лицам сидевших.
— Это потому, что вы не знаете, — сказали сразу несколько людей. Потом они стали подробно объяснять все обстоятельства дела. Их вялость исчезла. Все заговорили одновременно.
Вскоре Тарвин заметил, что эти люди, такие ленивые с виду, далеко не глупы. Их метод состоял в том, чтобы смирно лежать у врат величия. Терялось время, но в конце концов уплачивалось кое-что, в особенности, объяснял человек в желтом сюртуке, если суметь заинтересовать своим делом премьер-министра и через него возбудить интерес в женщинах раджи.
В уме Тарвина мелькнуло воспоминание о миссис Мьютри, и он слабо улыбнулся.
Человек в желтом сюртуке продолжал свой рассказ, и Тарвин узнал, что главная жена раджи — убийца, обвиненная в отравлении своего первого мужа. Она лежала, скорчившись в железной клетке, в ожидании казни, когда раджа увидел ее впервые, и — как рассказывали — спросил ее, отравит ли она и его, если он женится на ней. «Наверно, — ответила она, — если он будет обращаться с нею, как ее покойный муж». Поэтому раджа и женился на ней, отчасти для удовлетворения своей фантазии, но больше — от восторга, вызванного ее грубым ответом.
Эта безродная цыганка менее чем через год заставила раджу и государство лежать у своих ног — ног, по злобным замечаниям женщин раджи, огрубевших от путешествия по постыдным тропам. Она родила радже сына, на котором сосредоточила всю свою гордость и честолюбие, и после его рождения с удвоенной энергией занялась поддержанием своего господства в государстве. Верховное правительство, находившееся за тысячу миль, знало, что она — сила, с которой приходилось считаться, и не любило ее. Она часто препятствовала седому, медоточивому политическому резиденту, полковнику Нолану, который жил в розовом доме, на расстоянии полета стрелы от городских ворот. Ее последняя победа была особенно унизительна для полковника: узнав, что проведенный с гор канал, который должен был снабжать летом город водой, пройдет по саду апельсиновых деревьев под ее окнами, она пустила в ход все свое влияние на магараджу. Вследствие этого магараджа велел провести канал другим путем, несмотря на то, что это стоило почти четвертой части его годового содержания, и невзирая на доводы, почти со слезами приводимые резидентом.