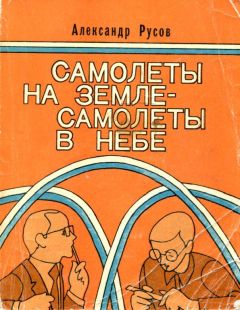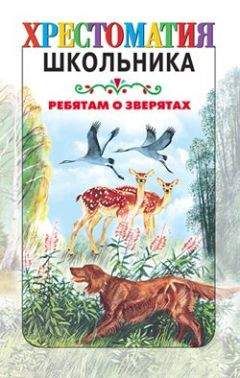Петрюс Борель - Шампавер. Безнравственные рассказы
– Беда… Может быть!..
– Но зачем все это, – ответь?
– Зачем! Тебе хочется знать? Ну что ж, – я должен завтра поехать в глухие места, дров надо закупить; дороги кишат разбойниками; без ружья лучше не ходить. Амада, а где мой cuchillo?[104] Он был тут, но я что-то его не нахожу.
– Вот он, милый, но зачем тебе понадобился еще и кинжал? Все для тех же разбойников?…
– Это уж как господь приведет!
Выслушав все эти тирады Баррау, Амада без единого слова закончила стряпню и накрыла стол для ужина. Муж ее прохаживался перед хижиной взад и вперед большими шагами и время от времени с нетерпением поглядывал вдаль. Взволнованная и расстроенная, Амада продолжала заниматься хозяйством, ее терзали самые разноречивые мысли, множество догадок, одна страннее и нелепей другой. Она отдала бы самую сладострастную из своих ночей и даже свои золотые четки, чтобы только поскорее наступил завтрашний день или чтобы суметь что-то прочесть в самых сокровенных уголках сердца Баррау. Много раз у нее вырывался глубокий вздох: «Alma de Dios![105] Сохрани рабу твою. Ангел хранитель, отведи руку Баррау, как ты удержал руку отца нашего Авраама!..».
Пабло нашел Хуана Касадора, когда тот собирался на танцы и с увлечением наигрывал что-то на своей надтреснутой мандолине, из которой доносились гнусавые звуки.
– Хозяин прислал меня, – сказал он, – передать вам табачку с королевских посадок и звать вашу милость на ужин; не велено без вас возвращаться.
Удивленный и обрадованный, Касадор поблагодарил Пабло за добрые вести и пустился в путь.
Дорогой он не мог сдержать веселости и ломал голову: «Кто бы это мог надоумить Жака на такие любезности? – спрашивал он себя. – Он ведь такой мрачный, давно уже он старается всячески меня отдалить, это не иначе, как Амада. А что, если это действительно ее влияние? Нет, быть не может! Выходит, она меня немножечко любит? Любит… любит… Нет, я слишком несчастлив!».
III
Traycion y traycion[106]
Заметив Хуана еще издалека, Жак, расхаживавший взад и вперед перед хижиной, пошел ему навстречу. Он дружески поздоровался с ним, наговорив всяких любезностей, на которые Касадор ответил так же приветливо. В ту минуту, когда они входили, Амада вздрогнула и, незаметно воздев глаза и как бы взывая к милосердию божьему, поспешно перекрестилась, после чего обернулась к ним.
– Doy a usted la bienvenida,[107] – спокойно сказала она Хуану Касадору. – Можно уже садиться за стол, все готово.
– Bien esta, querida,[108] – ответил Баррау, усаживая Хуана по правую руку от себя. – Companero![109] Давненько я не имел счастья поужинать с тобой; нужно отметить и достойно отпраздновать нашу встречу. Откупорим-ка несколько старых бутылок и попытаемся, старина, вновь обрести уют наших прежних мальчишников, которых еще не украшало присутствие милой Амады; тот, кто откажется, наречется трусом и подлецом!..
– Браво! Браво! Пусть так и будет, – сказал Касадор, – согласен, а проигравший заплатит штраф; берегись, Баррау!
– Compadre,[110] прибереги соболезнования для себя; Хуанито, сколько раз я тебя хоронил; берегись же, cobarde.[111]
С этими словами Баррау глубже заткнул торчавшую рукоять кинжала. Следившая за ним глазами Амада в ужасе закричала; оба тотчас подхватили ее, стали спрашивать, что с ней такое, стараясь оказать ей помощь, однако она быстро овладела собой.
– Пустяки, – сказала она, – сердце что-то забилось, вот я и вскрикнула.
– Как ты меня напугала! – сказал Жак.
– Вы мне вскружили голову и сердце, – пробормотал Касадор.
– Ах, Хуанито, хитро сказано, вот так признание.
– Я это сказал без задней мысли и не ставлю себе в заслугу.
– Что ты на это скажешь, наша Амада?
– Боже правый! Баррау, это может наскучить!
– Hv ладно, друзья, пошутили и не будем больше об этом говорить; dexadas las burlas,[112] выпьем по этому поводу! Амада сходила бы за бурдюком хереса в погреб. Или нет, не беспокойся, я сам схожу, тебе не найти. Вот я схожу, Хуанито, и ты скажешь свое мнение.
– Не будем терять времени, Амада, любимая, мы здесь одни, скажите мне, это вам я обязан этим счастьем?
– Каким счастьем?
– Разделить ваш…
– Нет, нет, мне вы ничем не обязаны; не мне, вовсе нет!..
– Вы, значит, все так же ко мне суровы? Дайте же хоть разок поцеловать вас сейчас; вечером тогда вы мне отказали.
– Нет! Я вас ненавижу, проклинаю… И все-таки мне вас жаль.
– Какое счастье!
– Послушайте, здесь вам угрожает опасность, будьте осторожны и молите бога, чтобы и он вас хранил.
– Объяснитесь!..
– Больше я ничего не знаю; замолчите или вы нас погубите, Хуан; молчите, он идет…
– Вот это херес! Дай-ка стаканчик, Хуан, попробуй только!
– Visa usted! Es un ambre,[113] превосходное вино.
– Ну, compadre, давай-ка еще разок, без церемоний. Ты не боишься прослыть трусом?
– Хуан Касадор не какой-нибудь новичок. Мне кажется даже, Барpay, что тебе придется готовить штраф, у тебя что-то глаза заблестели. Эй, что ты там делаешь? Осторожно, ты точно на качелях качаешься.
Положительно, Баррау был уже не просто навеселе, а по-настоящему запьянел. Он пел, покачиваясь, сердился и стучал по столу кулаком, громко хохотал, читал молитвы и отпускал грубые шутки, напоминавшие те своеобразные импровизации, которые бискайские arrieros,[114] когда у них хорошее настроение, распевают, едучи на мулах: в песенках этих довольно забавно смешано библейское и евангельское.
После долгой борьбы с собой и наговорив множество пошлостей, претивших Амаде, он склонился над столом и уснул.
– Нельзя оставлять его в таком состоянии, помогите мне, Касадор, уложить его на циновку, там он лучше проспится. Пьянчуга несчастный!..
Баррау не сопротивлялся.
– Касадор, возьмите у него нож, вон там, он может поранить себя. Набросим на него плащ. Что вы делаете? Касадор, не закрывайте ему лицо, он же задохнется! Нет, нет, не закрывайте, говорят вам!
– Какая вы глупая!.. Ах, простите меня, Амада, я увлекся. Случай мне помог! Он опьянел, и мы избавлены от его слежки, он сам облегчил мне свидание. Дайте мне покрыть поцелуями руку, которая меня отталкивает; Амада, не будь такой суровой.
– Замолчите!..
– Такой суровой к тому, кто любит тебя больше, чем волю!
– Перестаньте, Касадор, я жена вашего друга Жака Баррау.
– Вы что же, так и останетесь каменной?… На наших последних свиданиях я валялся у вас в ногах, и вы самой малости не позволили несчастному, что влюблен в вас. Вы меня дразните, Амада, бойтесь же моей мести!..
– Alma de Dios, спаси меня!.. Перестаньте, Хуан… Я позову Баррау!..
– Разбуди его, если посмеешь, мне-то что, зови своего мужа, он пьянехонек!
При этих словах Жак Баррау, отбросив плащ, внезапно выпрямился.
– Carajo, cobarde!..[115] Ты думаешь, rufian,[116] что можно споить Баррау, как спаивают Касадора? Подлец! Ты попался в ловушку. Умри же!..
Тут он хватает ружье и, прижав к щеке, наводит его на Касадора, который бежит к дверям. Амада, ухватившись за ствол, молит о пощаде и удерживает его.
Он вырывается, хватает со стола нож, заносит руку, чтобы ударить Хуана, но тот выскакивает вон, изо всех сил хлопает дверью, лезвие глубоко уходит в дерево. Баррау с пеной у рта преследует его, отчаянно ругаясь.
– Постой, постой! Жак, остановись! Послушай Амаду; будь великодушен, дай ему убежать!
Но муж, не обращая на нее внимания, стремительно как шквал, гнался за своим врагом, который старался спрятаться в чаще.
Совершенно обессилевшая Амада с трудом передвигалась по хижине. Она винила себя в смерти Хуана и горько плакала.
И, однако, Амада была безупречна; она не подала Хуану ни малейшей надежды, она решительно отвергла его любовные притязания, наконец, она попросту его не любила.
Но даже когда человек, который совсем не нравится женщине, страдает из-за нее и несчастен, ничто не может помешать сладостному чувству, зарождающемуся в ее душе; любви к нему по-прежнему нет, это верно, но в ней пробуждается жалость!.. Амада уже начала было надеяться, что ему удастся ускользнуть от обезумевшего ревнивца, как вдруг грянул выстрел.
– Все кончено! Santa Virgen! – воскликнула она, без сил падая на колени. – Virgen Maria,[117] помилуй нас! Jesu Cristo,[118] избавитель душ наших, будь милостив к нему! Buen Dios, Dios de mi corazon,[119] смилуйся над ним в судный день!.. – Ее голос мало-помалу стих, и она застыла, погрузившись в печаль.
Послышались поспешные шаги: Баррау возвратился тяжело дыша, с блуждающим взглядом, тупо волоча ружье за портупею.
– Вставай, Амада, после помолишься. Дай мне воды.
Она приближается дрожа и протягивает ему кувшин, а Баррау засучивает рукава куртки; видя, что обе руки у него в крови, Амада роняет и разбивает таз.