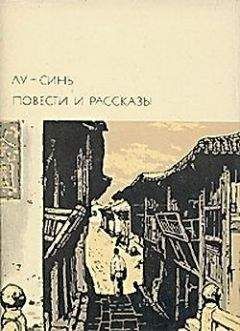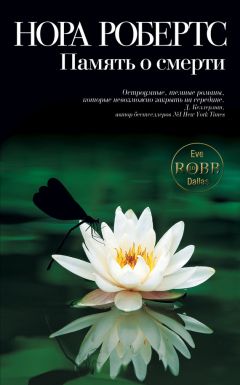Грация Деледда - Элиас Портолу
— А как же стихи? — поинтересовался Элиас, слегка улыбнувшись. Он словно обрадовался, что подловил-таки его преподобие, но голос выдавал охватившее его внутреннее волнение.
— Хорошие стихи — это голос совести, говорящей нам, что мы выполнили свой долг. Ну, что ты на это скажешь, Элиас Портолу?
— Я скажу, что это именно так и есть.
— Вот и прекрасно. Теперь мы можем идти. Становится сыро, и потом, разве не ты сказал, что здесь водятся змеи? Дай-ка мне руку, помоги подняться… Мне уже не двадцать лет, чтобы так резво скакать, как ты. Вот так, спасибо! Теперь дай мне за тебя ухватиться. Ну, что ты теперь скажешь о преподобном Поркедду? — спросил он, беря Элиаса за руку. — Он, конечно, сумасброд, он может вернуться домой за полночь, может пить, распевать песни, даже швырнуть хлеб собакам, но сам по себе он совсем не злой. Совесть, прежде всего, надо иметь совесть! Помни о совести, Элиас Портолу! Ой, что это там виднеется? Что-то черное, посмотри, уж не змея ли часом?
— Нет, валежник.
— Увидят, что мы возвращаемся вот так, и подумают, что я пьян. Но мне все равно, что скажут другие, ибо я не пьян. Или ты полагаешь, что я все-таки пьян?
— О нет! — с жаром выкрикнул Элиас.
— Вот и хорошо, и не забывай, что я тебе сказал!
— Не забуду.
— Я люблю твою семью… — начал было преподобный Поркедду, но сразу раскаялся в том, что затеял этот разговор, ловко сменил тему и в течение всего часа, что провел с Элиасом, больше о том не заговаривал.
Никто из них больше не произнес имени Магдалины, но теперь Элиас чувствовал себя совсем иным — сильным, спокойным, чуть ли не холодным, преисполненным решимости неутомимо бороться с самим собой. Завтра утром отъезд. Старый приор передал штандарт, киот и ключи новому, которого избрали накануне; жена его поделила хлеб, остатки провизии и последний котел с филиндой[6] между семьями клана. С рассветом начали собираться в дорогу: наполнили поклажей переметные сумы, нагрузили подводы, оседлали коней. Отслужили молебен и тронулись в путь, а новый приор закрыл ворота. Комнатки, церковь, заросли вновь опустели и застыли в одиночестве на голубом фоне девственных гор.
Вот и все! Сплюшка вновь заводит свою длинную звонкую трель в бесконечной тиши лесных зарослей. И ночами, в благоухающем пряном аромате, и долгими светлыми днями только она одна всецело господствует в этом пустынном царстве, только она одна здесь правит; и ее грустная песня звучит, словно мечтательный голос самой природы. Вот и все! Кони где рысью, а где и галопом то устремляются вниз, то поднимаются вверх по зеленым горным ущельям; славное и гордое племя родственников и почитателей Святого Франциска возвращается в свой городок, скрытый за свежеумытыми склонами Ортобене; каждый возвращается к своим занятиям: к овцам, нивам, своей нелегкой жизни. Праздник окончился.
Дядюшка Портолу подсадил к себе на коня тетушку Аннедду, а Пьетро — свою невесту. На этот раз Элиас скакал один, среди тех, кто возглавлял шествие; вместе со всеми он тоже пускал коня во весь опор, жадно вбирая в себя воздух, с горящими глазами, словно опьяненный теплым душистым ветром, который волновал цветущие кущи дерев и зарослей и приятно бил ему в лицо. Внутренне он был, однако, серьезным: он не пел песни, не кричал, как другие, и даже не заглядывался на Паску, дочь теперь уже бывшего приора, хотя ему нередко и случалось ехать с ней рядом. Паска всякий раз бросала на него нежный, хотя и робкий, взгляд, но Элиас рассуждал про себя:
«Почему я должен кого-либо обманывать, и тем более невинную девушку? Нет, мне не следует никого обманывать, и меньше всего себя самого».
Он не забыл слова преподобного Поркедду и данный им накануне поздно вечером зарок: поэтому он не заигрывал с Паской и, отдаляясь от Магдалины, пытался безотчетно убежать от самого себя, невинно упиваясь скачкой, быстрым бегом своего коня.
Кобылу, за которой бежал жеребенок, оседлали на этот раз дядюшка Портолу и тетушка Аннедда; у Пьетро с Магдалиной лошаденка была очень смирная, но несколько худая и не слишком крепкая. Поэтому они ехали последними, и дядюшка Портолу постоянно на них оглядывался. Около полудня добрались до Изалле; по сложившейся традиции все спешились, чтобы отобедать под кущами деревьев, среди покрытых цветущим мхом скал, на берегу реки. Быстро разбили привал, разожгли костры, завертелись вертела, люди сели трапезничать. Полдень выдался погожим; большие высокие заросли олеандров тянулись вдоль реки, неподвижные в жарком воздухе; в глубине ущелья нивы блестели под лучами солнца. Расстелили на земле большой платок и поставили на него киот с фигуркой Святого Франциска; закончив трапезу, мужчины и женщины столпились вокруг Святого, преклоняли колена, целовали киот, клали внутрь свои лары. Пьетро подошел к Святому вместе с Магдалиной, и движимый скорее желанием покрасоваться, чем искренним чувством, положил в киот щедрое приношение; потом подошла тетушка Аннедда, потом Элиас, который не сразу отошел, а помедлил, устремив на фигурку Святого исполненный молитвой взор. Ах, он почувствовал, что почва вновь уходит у него из-под ног; его мучительно терзали жара, полуденная истома этого погожего дня, выпитое вино, присутствие Магдалины. Но фигурка Святого вняла его молитве, он обрел силу духа, удалился от остальных и растянулся на берегу потока под олеандрами — в одиночестве и вооружившись против искушения силой духа.
В той стороне, где путники расположились на привале, женщины болтали между собой, пили кофе и приводили себя в порядок перед тем, как тронуться в путь; мужчины пели и развлекались стрельбой в цель. Элиас слышал раскаты выстрелов, грохотавших в ущелье, отзывавшихся в зеленых далях и накатывавшихся эхом обратно; голоса доносились до него как бы издалека, словно растворенные в полуденной тиши; разливалась трель зяблика, шумел поток; и как только его сковал сладостный сон, ему привиделось, будто Магдалина спускается к реке помыться. Завидев его, она совсем не смутилась, а подошла поближе и склонилась над ним… Это уж чересчур, чересчур!.. Глаза Магдалины, горящие, роковые, его словно околдовали. Элиас помнил данный им обет: «Пьетро, брат мой, даже если она сама бросится мне в объятия, я ее отвергну…» Но его охватило такое смятение, он пришел в такое исступление, что сдавило грудь и потемнело в глазах: он хотел было убежать прочь, но не мог пошевелить даже пальцем — она была рядом, и ее глаза пылали из-под широких полуопущенных век, а ее губы, ее зубы сводили его с ума.
— Магдалина, любовь моя! — вырвалось у него, но он тотчас же раскаялся и застонал от страсти и боли: — Пьетро, брат мой! Пьетро, брат мой!
Он проснулся с дрожью в теле; вокруг ни души — лишь шум реки и щебетанье птиц и ни выстрелов, ни голосов. Элиас вскочил: сколько же времени он проспал? Он взглянул на солнце и увидал, что оно клонится к закату. Все давно были уже в пути, лишь двое пастухов караулили его лошадь. Им в обмен на сыр и творог спутники Элиаса оставили остатки своей трапезы. Он их поблагодарил и пустился в путь. Его лошадь стремительно мчалась вперед; и скачка, и желание поскорее догнать спутников развеяли мучительное и тягостное наваждение сна. После почти часовой скачки он увидал дядюшку Портолу и тетушку Аннедду, Пьетро и Магдалину, которые на лошадях были в том месте, где с вершины горы начинался спуск. Может быть, они поджидали его? Другие были уже далеко.
— Ну что? — крикнул он еще издали.
— Разрази тебя дьявол! — закричал в ответ дядюшка Портолу. — Где тебя носило все это время? Отдай своего коня брату, его лошадь совсем уж выбилась из сил!
— Не дам!
— Элиас, сынок, повинуйся отцу! — произнесла тетушка Аннедда.
— Нет! — сердито отрезал Элиас. — Вы бросили меня там, как последнего осла. Не дам и все!
— Ладно, тогда подсади к себе на время Магдалину, потому что так мы далеко не уедем, — сказал ему Пьетро.
«Ах, Пьетро, если бы ты только знал, что ты такое мне предлагаешь!» — мысленно воскликнул Элиас. Он уже раскаивался, что не уступил лошадь брату, но в глубине души чувствовал затаенную радость, которую не мог подавить.
Они начали спускаться верхом с горы, и он почувствовал, как Магдалина привалилась мягким телом к его спине чуть более, чем следовало, совсем как во сне, а ее рука чуть крепче, чем нужно, вцепилась ему в пояс, а поскольку он верил в сны и не мог забыть своего, то насторожился.
Сильная лошадь Элиаса несла их вперед по тропинке, покрытой цветущим кустарником, ныряющей то вверх, то вниз, то скрывающейся в расщелине среди скал, и временами Элиас и Магдалина оказывались один на один, но упорно молчали, поглощенные и мучимые своим горестным чувством. В какой-то момент Магдалина, натура страстная и в то же время слабая, не выдержала.
— Элиас, — промолвила она слегка дрожащим голосом, — извини, если я тебе досаждаю.