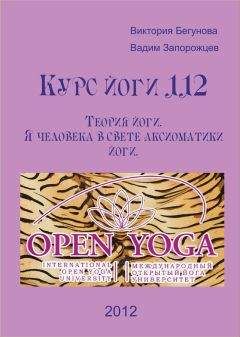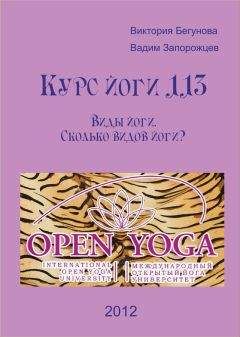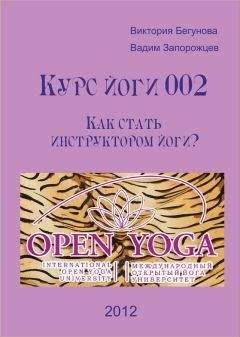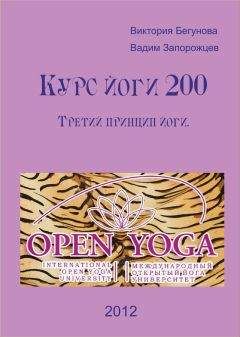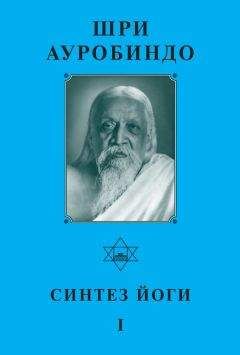Василий Шукшин - Там, вдали...
— Мы, очевидно, поженимся. Вот и все.
Как молотком били по голове, только удары были какие-то тупые и туго доходили до сознания Фонякина.
— А как же… — хотел заговорить он тоже спокойно. — Как же Петька?.. — голос прерывался, спокойствия не получалось. Он чувствовал, что сейчас сорвется. И Ольга чувствовала это, но оставалась спокойной. Это-то больше всего и взбесило Фонякина. — Муж как же?..
— Я никогда не любила его. Он знает об этом.
Фонякин поднялся.
— Иди сюда, — сказал он.
Ольга помедлила секунду, подошла.
Отец ударил ее по щеке. И потом еще раз и еще… Ольга попятилась от него.
— Еще, — попросила.
Фонякин шагнул и ударил еще.
— Шлюха.
— Еще бей!
— Шлюха! Вон из… — Фонякин задыхался.
— Еще бей! — требовала Ольга.
Фонякин схватился за сердце, стал торопливо искать глазами место, куда присесть. Он сделался белый, губы посинели…
— Папа! — вскрикнула Ольга. — Папа, что с тобой?
Вбежала мать.
— Паша!
— Не орите! — с трудом сказал Фонякин, осторожно опускаясь в кресло. — Дай глицерин. Скорей. В баночке…
Жена нашла нитроглицерин, Фонякин проглотил таблетку, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Женщины замерли около него.
Долго все молчали.
— Седин не пожалела, — негромко заговорил Фонякин, не открывая глаз. — Не пощадила…
— Папа, при чем здесь ты?
Мать дернула дочь за руку, показала глазами на дверь. Ольга вышла.
— Отец, конечно, ни при чем. Эх, вы…
— Паша, успокойся. Ну не надо сейчас-то…
— Ты замолчи! — Фонякин вздохнул и сам замолчал. Только часто и глубоко дышал.
Вечером Ольга ушла из дома. Совсем.
Через два дня приехал Петр.
Тещи дома не было, Петр прошел в комнату Фонякина.
Павел Николаевич лежал в кровати.
— Что, опять? — спросил Петр. Даже не поздоровался.
Фонякин за эти два дня изменился до неузнаваемости: глаза впали, нос заострился, как у покойника, на щеках, в морщинах залегли нехорошие тени.
— Сядь, Петро, — сказал он. Сам несколько приподнялся на полушках. — Как дома?
— Тетку схоронил, — Петр отодвинул на стуле лекарства, присел на краешек. Хотел закурить, но спохватился.
— Да, кури! Дай, я тоже закурю.
— Может, не надо?
Закурили.
— Что с теткой-то?
— Рак желудка. Пятнадцать килограмм от человека осталось.
— Успел еще?
— Успел. Только не узнала…
Долго молчали.
— Ну, крепись, Петро… Все к одному: Ольга ушла из дома. К учителю… есть тут у нас…
Петр не понял.
— Как ушла?
— Ушла. Совсем. Замуж вышла, — Фонякин опустился на подушки. Видно, немалого стоили ему эти слова. Прикрыл глаза, шумно вздохнул. — От тебя ушла, не понимаешь, что ли?
Волной — от макушки до пят — окатил Петра мерзкий озноб. И схлынул. Жарко сделалось. Он молчал. Фонякин посмотрел на него… и отвернулся.
— Где он живет? Учитель… — спросил Петр.
— У бабки Маланьи… Спросишь — покажут.
Петр поднялся.
— Петя… — Фонякин привстал, глянул прямо в глаза зятю. — Не делай там греха… прошу. Хоть ты-то… Ничего же не изменишь. Как сына прошу…
Слова Павла Николаевича дошли до него, когда он шел к учителю. Он сбавил шаг. Надо было сообразить, как действовать. Но что тут сообразишь?! Так и вошел, ничего не придумав, — какие слова говорить, что вообще делать?
— Здравствуйте.
Они о чем-то оживленно и, кажется, резковато беседовали. Юрий ходил по комнате, Ольга сидела у стола, положив ногу на ногу. И первое, что бросилось в глаза Петру, — круглые, тупые, крепкие коленки Ольги. Не сама Ольга, не взгляд ее, не Юрий Александрович — колени. И почему-то это успокоило, отрезвило. Потом уж он увидел и Ольгу, и учителя… А так как они промолчали на его «здравствуйте», он еще раз громко сказал:
— Здравствуйте, говорю. Что за невежливость такая?
— Здравствуйте, — сказал Юрий.
Ольга внимательно — с таким знакомым любопытством! — смотрела на Петра.
— Сесть-то можно? — весело спросил тот. И сел, не ожидая приглашения.
Вспомнилось ему, как когда-то, в ранней молодости, случалось одному нарваться на ораву ребятни из чужого, враждебного края. Точь-в-точь такое же чувство: сперва мгновенная оторопь — она хоть и мгновенная, хоть и оторопь, а успеешь заметить: высок ли плетень, что рядом, не махануть ли через него? Успел заметить Петр, что Юрий растерялся, если не испугался, Ольга приготовилась — ждет какой-нибудь выходки от Петра, вся наструнилась, но спокойная и — вот-вот — в глазах появится насмешка.
— Давайте познакомимся! — Петр встал, шагнул к Юрию… И опять успел заметить, как в глазах Ольги метнулся испуг. И погас. Но еще самую малость — шагни Петр решительнее или сунься в карман — она или вскочила бы, или крикнула. — Ивлев Петр, — представился он.
— Юрий.
Петр сел.
— Ты любишь ее? — в упор спросил он Юрия.
— Да, — ответил Юрий, несколько более решительно, чем этого требовал простой вопрос, несколько даже торжественно. Он тоже, наверно, шагнул в яму. Ольгу покоробило это.
— Ты, Ольга?
— Когда я еще была в пионерах, меня учили, что на допросах надо молчать. Я…
— Ты любишь? — переспросил Петр, меняясь в лице. Ольга знала, что это такое — когда он меняется в лице.
— Да, — сказала она.
— Вот и все, — сказал Петр.
«Убить!» — стукнуло в голову, и уж гнилостный, страшный холодок беды дохнул в грудь.
— Вот и все, — повторил он. И полез закуривать. — Разговор кончен, — он устал, и все стало безразлично. Сунул обратно папиросы, поднялся и пошел к двери. — Прощайте, — сказал на ходу. И хлопнул дверью.
Во дворе его догнала Ольга.
— Я провожу тебя.
— Зачем?
— Мне хочется.
— Пойдем.
Долго шли молча. Петр шагал широко, Ольга едва поспевала за ним.
— Отца видел? — спросила она.
— Видел.
— Какой?
— Лежит.
— А там… с теткой?
— Померла
Опять долго молчали, почти до самого дома Фонякиных.
— Петр… у меня сердце кровью плачет… Я проклинаю себя… Мне жалко вас — тебя и отца…
— Это ты брось. Зря.
— Все равно вы самые хорошие, самые родные мне.
— Брось, Ольга! Чего ты?.. Совсем непохоже на тебя. Не нам с тобой плакать.
— Я домой не пойду.
— Почему?
— Не надо, отец разволнуется. Я подожду.
Фонякин сидел в кровати, когда вошел Петр.
— Что? — спросил он испуганно. — Скоро как-то…
— Ничего, все обошлось. Успокойтесь, — Петр присел к нему на кровать. Говорить было совершенно не о чем. Тяжело было бы о чем-нибудь говорить.
— Ну, поехал. — Петр поднялся. — Выздоравливайте.
Фонякин кивнул.
— Трудовую книжку вышлите потом.
— Ладно. Куда сейчас?
— К дяде. Старенький он уж стал… инвалид.
Фонякин опять кивнул.
— Не обессудь, Петро. Я ничего тут не мог сделать.
— Да что вы! Поправляйтесь, главное. Я не пропаду, — Петр пожал крупную слабую ладонь тестя. Когда-то — он даже и не успел заметить, когда и за что, — полюбил он этого доброго человека, вечного труженика. И понял это только сейчас.
И его тоже больно отрывать от сердца.
— Будьте здоровы.
— Счастливо тебе, — Фонякин глядел вслед Петру, пока за ним не закрылась дверь.
Ольга ждала его.
— Вот так, Ольга.
— Как он? — пока Петра не было, она заметно успокоилась.
— Ничего. Поругались, наверно?
— Да. Хуже — он меня ударил. Первый раз в жизни…
— Ну… ты больней бьешь.
— Куда сейчас?
— Домой. Дядька плохой тоже… Ничего, Ольга, все будет нормально.
— Не торопись, куда бежишь-то?
Петр сбавил шаг.
— Он хороший человек? Учитель-то?
— Хороший, — не сразу ответила Ольга. — Но это… опять не то. Я не знаю, — она не жаловалась, не сожалела.
На Петра никак не подействовали ее слова. Вышли уже на край села, а за селом открывалась даль. Всхолмленная, в лесах, но необозримо широкая, раздольная. Представилось Петру, что надо идти ему в эту даль — незнакомую, необъятную. Непривычно, чуть страшновато, но уже думалось о том, как будет ТАМ, ВДАЛИ. Уже шагал он ТУДА, и остановить его было нельзя. Именно оттого, что непривычно, и неведомо, и неоглядно широко, манило и влекло ТУДА.
Увидев колодец в конце улицы, Петр свернул к нему.
— Подожди, напьюсь на дорожку.
Ольга тоже подошла к колодцу.
Вал с визгом, долго раскручивался. Глубоко внизу гулко ударилась в воду кованая бадья. Забулькала, залопотала вода, заглатываемая железной утробой бадьи. Тихонько, расслабленно звенели колечки мокрой цепи. Потом цепь рывком натянулась — бадья, наполнившись, утонула. Вал надсадно, с подвывом застонал, как заплакал. Цепь с противным, трудным скрежетом наматывалась на вал. Срывались вниз капли, громко шлепались.
Петр подхватил тяжелую бадью, поставил на сруб, широко раскорячил ноги, склонился и стал жадно пить.
— Мх, — простонал он, отрываясь от бадьи, — холодная, аж зубы ломит. Не хочешь?
Ольга отказалась.
Петр еще раз пристроился к бадье, долго пил. Потом торопясь вылил воду. Оба стояли и смотрели, как льется на грязную, затоптанную землю прозрачная вода.