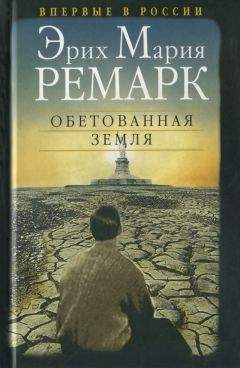Эрих Мария Ремарк - Земля обетованная
– Да я и не искал.
– Тем лучше. Коли так, можно без помех сыграть тихую партию в шахматы. Или вы устали?
Я покачал головой.
– На свободе не так быстро устаешь.
– Это кто как, – возразил Мойков. – Обычно эмигранты, прибыв сюда, прямо на глазах разваливаются и сутками только и знают, что спать. Должно быть, реакция организма на долгожданную безопасность. У вас нет?
– Нет. По крайнем мере я ничего такого не чувствую.
– Значит, еще накатит. Никуда не денетесь.
– Ну и ладно.
Мойков принес шахматы.
– Лахман уже ушел? – спросил я.
– Нет еще. По-прежнему наверху у своей ненаглядной.
– Думаете, сегодня ему повезет?
– С чего вдруг? Она потащит его ужинать вместе со своим мексиканцем, а он за всех заплатит. Он что, всегда такой был?
– Он уверяет, что нет. Говорит, что приобрел этот комплекс вместе с хромотой.
Мойков кивнул.
– Может быть, – сказал он задумчиво. – Впрочем, мне все это безразлично. Вы даже представить не можете, сколько всего становится человеку безразлично в старости.
– А вы давно здесь?
– Двадцать лет.
Краем глаза я заметил в дверях какую-то легкую тень. Чуть подавшись вперед, там стояла молодая женщина и смотрела на нас. Строгий овал бледного лица, ясный и твердый взгляд серых глаз, рыжие волосы, которые почему-то показались мне крашеными.
– Мария! – Мойков от неожиданности вскочил. – Когда же вы вернулись?
– Вчера.
Я тоже встал. Мойков чмокнул девушку в щечку. Ростом она оказалась чуть ниже меня. На ней был узкий, облегающий костюм. Голос низкий и с хрипотцой, как будто чуть надтреснутый. Меня она не замечала.
– Водки? – спросил Мойков. – Или виски?
– Лучше водки. Но на мизинец, не больше. Мне надо бежать. У меня еще сеанс.
Говорила она очень быстро, почти взахлеб.
– Так поздно?
– Фотограф только в это время свободен. Платья и шляпки. Очень маленькие. Прямо крохотульки.
Тут я заметил, что на ней и сейчас шляпка, вернее, очень маленький берет, этакая черненькая финтифлюшка, косо сидящая в волосах.
Мойков пошел за бутылкой.
– Вы ведь не американец? – спросила девушка по-французски. Она и с Мойковым по-французски говорила.
– Нет. Я немец.
– Ненавижу немцев, – отрезала она.
– Я тоже, – ответил я.
Она вскинула на меня глаза.
– Я не то имела в виду! – выпалила она смущенно. – Не вас лично.
– Я тоже.
– Вы не должны сердиться. Это все война.
– Да, – отозвался я как можно равнодушней. – Это все война, я знаю.
Уже не в первый раз меня оскорбляли из-за моей национальности. Во Франции это случалось сплошь и рядом. Война и вправду золотое время для простых обобщений.
Мойков вернулся, неся бутылку и три маленькие стопочки.
– Мне не нужно, – сказал я.
– Вы обиделись? – спросила девушка.
– Нет. Просто пить не хочу. Надеюсь, вам это не помешает.
Мойков понимающе ухмыльнулся.
– Ваше здоровье, Мария! – сказал он, поднимая рюмку.
– Напиток богов, – вздохнула девушка и опустошила рюмку одним махом, резко, как пони, запрокинув голову.
Мойков схватился за бутылку.
– Еще по одной? Рюмочки-то малюсенькие.
– Grazie[9], Владимир. Достаточно. Мне надо бежать. Au revoir![10]
Она протянула мне руку.
– Au revoir, monsieur[11].
Рукопожатие у нее оказалось неожиданно крепкое.
– Au revoir, madame[12].
Мойков, вышедший ее проводить, вернулся.
– Она вас разозлила?
– Да нет. Я сам все спровоцировал. Мог бы сказать, что у меня австрийский паспорт.
– Не обращайте внимания. Она не хотела. Просто говорит быстрее, чем думает. Она поначалу почти каждого исхитряется разозлить.
– Правда? – спросил я, почему-то только сейчас начиная злиться. – Вроде бы не такая уж она и красавица, чтобы так заноситься.
Мойков усмехнулся.
– Сегодня у нее не лучший день, но чем дольше ее знаешь, тем больше она располагает к себе.
– Она что, итальянка?
– Вроде того. Зовут ее Мария Фиола. Помесь, как и почти все здесь; мать, по-моему, была то ли испанской, то ли русской еврейкой. Работает фотомоделью. Раньше жила здесь.
– Как и Лахман, – заметил я.
– Как Лахман, как Хирш, как Лёвенштайн и многие другие, – с готовностью подтвердил Мойков. – Здесь у нас дешевый интернациональный караван-сарай. Но все-таки это на разряд выше, чем национальные гетто, где поначалу обычно поселяются новоприбывшие.
– Гетто? Здесь они тоже есть?
– Их так называют. Просто многих эмигрантов тянет жить среди земляков. Зато дети потом мечтают любой ценой вырваться оттуда.
– Что, и немецкое гетто тоже есть?
– А как же. Йорквилл. Это в районе Восемьдесят шестой улицы, где кафе «Гинденбург».
– Как? «Гинденбург»? И это во время войны?
Мойков кивнул.
– Здешние немцы иной раз похлеще нацистов.
– А эмигранты?
– Некоторые тоже там живут.
На лестнице раздались шаги. Я тотчас же узнал хромающую поступь Лахмана. Ее сопровождал глубокий, очень мелодичный женский голос. Должно быть, пуэрториканка. Она шла впереди Лахмана, не слишком заботясь о том, поспевает ли за ней ее обожатель. Не похоже было, что у нее парализованная нога. Говорила она только с мексиканцем, который вел ее под руку.
– Бедный Лахман, – сказал я, когда вся группа удалилась.
– Бедный? – не согласился Мойков. – Почему? У него есть то, чего у него нет, но что он хотел бы заполучить.
– И то, что остается с тобой навсегда, верно?
– Беден тот, кто уже ничего не хочет. Не хотите ли, кстати, выпить рюмочку, от которой недавно отказались?
Я кивнул. Мойков налил. На мой взгляд, расходовал он свою водку как-то уж слишком расточительно. И у него была очень своеобразная манера пить. Маленькая стопка полностью исчезала в его громадном кулаке. Он не опрокидывал ее залпом. Мечтательно поднеся руку ко рту, он медленно проводил ею по губам, и только затем в его длани обнаруживалась уже пустая стопка, которую он бережно ставил на стол. Как он ее выпил, понять было нельзя. После этого Мойков снова открывал глаза, и в первый миг казалось, что они у него совсем без век, как у старого попугая.
– Как теперь насчет партии в шахматы? – спросил он.
– С удовольствием, – сказал я.
Мойков принялся расставлять фигуры.
– Самое замечательное в шахматах – это их полная нейтральность, – заявил он. – В них нигде не прячется проклятая мораль.
IV
Всю следующую неделю мой второй, нью-йоркский возраст стремительно прогрессировал. Если во время первой прогулки по городу мои познания в английском соответствовали уровню пяти-шестилетнего ребенка, то неделю спустя я находился уже примерно на девятом году жизни. Каждое утро я проводил несколько часов в гостиничном холле, в красном плюшевом кресле с английской грамматикой в руках, а после обеда старался не упустить любую возможность мучительного, косноязычного общения. Я знал: мне обязательно нужно научиться хоть как-то изъясняться еще до того, как у меня кончатся деньги, – без этого я просто не смогу зарабатывать. Это был краткий языковый курс наперегонки со временем, к тому же весьма ограниченным. Так в ходе обучения у меня последовательно появлялся французский, немецкий, еврейский, а под конец, когда я уже наловчился уверенно различать чистокровных американок среди официанток и горничных, даже бруклинский акцент.
– Надо тебе завести роман с учительницей, – советовал Мойков, с которым мы тем временем перешли на ты.
– Из Бруклина?
– Из Бостона. Говорят, там лучший английский во всей Америке. Здесь-то, в гостинице, акценты кишат, как тифозные бациллы. У тебя, похоже, хороший слух только на крайности, норму, к сожалению, ты вообще не слышишь. А так чуток эмоций, и дело, глядишь, веселее пошло бы.
– Владимир, – урезонивал я его, – я и так достаточно стремительно развиваюсь. Каждый день мое английское «я» взрослеет чуть ли не на год. К сожалению, при этом и мир вокруг теряет обаяние волшебства. Чем больше слов я понимаю, тем дырявее покров неизведанности. Надменные небожители из драгсторов мало-помалу превращаются в заурядных торговцев сосисками. Еще несколько недель, и оба моих «я» сравняются. Тогда, вероятно, и наступит окончательное прозрение. Нью-Йорк перестанет казаться сразу Пекином и Багдадом, Афинами и Атлантидой, а будет только Нью-Йорком, и мне, чтобы вспомнить о южных морях, придется тащиться в Гарлем или в китайский квартал. Так что лучше уж ты меня не торопи. И с акцентами тоже. Неохота мне так уж быстро расставаться со своим вторым детством.
Вскоре я уже хорошо знал все антикварные магазины и лавочки на Второй и Третьей авеню. Людвиг Зоммер, чей паспорт обрел во мне своего второго владельца, при жизни был антикваром. Я побывал у него в обучении, а он свое дело знал хорошо.
В этой части Нью-Йорка были сотни подобных магазинчиков. Больше всего я любил совершать такие экскурсии под вечер. Об эту пору солнце уже заглядывало сюда как бы искоса, и казалось, сквозь витрины на другой стороне улицы оно заталкивает в лавочки белесые призмы пыли, словно факир, бесшумно проникающий сквозь стекло, как сквозь тихую воду. Тогда, будто по таинственному приказу, старинные зеркала на стенах разом оживали, заполняясь серебристыми омутами пространства. Только что они были подслеповатыми пятнистыми плоскостями – и вдруг становились окнами в бесконечность, погружая в себя многоцветные туманности картин с противоположного тротуара.