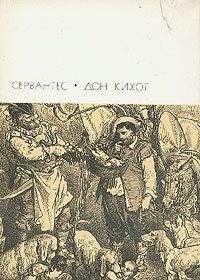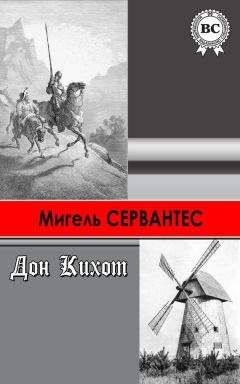Мигель де Сервантес - Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Часть первая
— Сеньор! Пусть этот кавальеро сам скажет, почему его так везут, а мы ничего не знаем.
Услышав, о чем идет речь, Дон Кихот сказал:
— Может статься, ваши милости знают толк и разбираются в том, что такое странствующее рыцарство? Если да, то я поведаю вам свои невзгоды, если же нет, то мне не к чему утруждать себя повествованием о них.
В это время священник и цирюльник, видя, что путники вступили в разговор с Дон Кихотом Ламанчским, подъехали поближе, с намерением в случае чего дать такие объяснения, чтобы хитрость их осталась неразгаданной.
Каноник на вопрос Дон Кихота ответил так:
— По правде сказать, сын мой, рыцарские романы я знаю лучше, чем Sumulas[250] Вильяльпандо, а посему, если дело только за этим, вы смело можете поведать мне все, что угодно.
— Слава богу, — молвил Дон Кихот. — Когда так, то да будет вам известно, сеньор кавальеро, что меня околдовали и посадили в клетку, а виной тому зависть и коварство злых волшебников, ибо добродетель сильнее ненавидят грешники, нежели любят праведники. Я — странствующий рыцарь, но не из тех, чьи имена Слава ни разу не вспомнила и не увековечила, а из тех, кому суждено назло и наперекор самой зависти, а равно и всем магам Персии, браминам Индии[251] и гимнософистам Эфиопии[252] начертать свое имя в храме бессмертия, дабы оно послужило примером и образцом далеким потомкам и дабы странствующие рыцари будущего знали, какие пути ведут к наивысшему почету на ратном поприще.
— Сеньор Дон Кихот Ламанчский говорит правду, — сказал на это священник. — Он, точно, едет заколдованный на этой телеге, и не за свои грехи и провинности, но по злоумышлению тех, кому добродетель несносна, а доблесть постыла. Это, сеньор, Рыцарь Печального Образа, о котором вы, может статься, уже от кого-нибудь слышали и которого смелые подвиги и великие деяния будут вычеканены на прочной меди и несокрушимом мраморе, сколько бы зависть ни старалась их очернить, а лукавство — скрыть.
Когда каноник услышал, каким слогом говорят и пленник и находящийся на свободе, то чуть не перекрестился от изумления, — он не мог понять, что это такое, и в не меньшее изумление привело это его спутников. Тут Санчо Панса, подъехав послушать, о чем говорят, и решившись внести в это дело полную ясность, сказал:
— Вот что, сеньоры: как вам будет угодно, а только мой господин Дон Кихот так же заколдован, как мы с вами, — он совершенно в своем уме, ест, пьет и отправляет свои потребности не хуже всякого другого, так же как он это делал вчера, когда его еще не сажали в клетку. А коли так, то чем же вы можете мне доказать, что он заколдован? Ведь я от многих слыхал, что заколдованные не едят, не спят, не говорят, а мой господин, если только его не остановить, наговорит больше, чем тридцать стряпчих.
И, обратясь к священнику, продолжал:
— Ах, сеньор священник, сеньор священник! Неужто ваша милость думала, что я вас не узнал и что я не догадываюсь и не смекаю, куда ведут эти новые чародейства? Ан нет, узнал, было бы вам известно, сколько бы вы ни прятались под маской, и раскусил, было бы вам известно, сколько бы вы ни скрывали свои козни. Словом сказать, где царствует зависть, там нет места для добродетели, а со скаредностью не уживается щедрость. Черт возьми! Когда бы не ваше преподобие, то мой господин когда бы уж был женат на инфанте Микомиконе, а я был бы по меньшей мере графом, — порукой тому доброта моего Печального Образа, равно как и важность оказанных мною услуг! Но я вижу, что недаром у нас люди говорят: колесо Фортуны проворнее мельничного, и кто вчера был высоко-высоко, тот нынче лежит во прахе. Жаль мне мою жену и детей: ведь у них были все основания надеяться, что их отец вернется домой губернатором острова или же — как бить его? — птицекоролем какого-нибудь королевства, а вместо этого он вернется конюхом. Все это, сеньор священник, я говорю единственно для того, чтобы вы, ваше высокопреподобие, раскаялись в дурном обхождении с моим господином, а то глядите, как бы на том свете бог не спросил с вас за то, что вы его заточили, и не осудил вас за то, что мой господин Дон Кихот не совершил за время плена ни одного доброго дела и никому не помог.
— Экие он пули отливает! — сказал на это цирюльник. — Стало быть, Санчо, ты со своим господином одного поля ягода? Ей-богу, я начинаю думать, не посадить ли и тебя в клетку к нему за компанию и не побыть ли тебе вместе с ним на положении заколдованного, потому что тебе передались его замашки и его рыцарщина. Не в добрый час соблазнил он тебя своими обещаниями и не в пору втемяшился тебе этот остров, о котором ты так мечтаешь.
— Я не девушка, чтобы меня соблазнять, — возразил Санчо, — меня еще никто не соблазнял, ниже сам король, я хоть и бедняк, но христианин чистокровный и никому ничего не должен. И я мечтаю об острове, а другие мечтают кое о чем похуже, и ведь все от человека зависит, стало быть, коли я человек, то могу стать папой, а не только губернатором острова, островов же этих самых мой господин может завоевать столько, что и раздавать их будет некому. Думайте, что вы говорите, ваша милость, сеньор цирюльник, это вам не бороду брить, нельзя мерить всех одной меркой. Говорю я это к тому, что все мы здесь друг дружку знаем, и нечего мне голову морочить. А что мой господин будто бы заколдован, то бог правду видит, а мы пока помолчим, потому лучше этого не трогать.
Цирюльник, боясь, что из-за простодушия Санчо откроется то, что он и священник столь тщательно скрыть старались, не стал отвечать ему; и по той же самой причине священник предложил канонику проехать с ним вперед, — он-де поведает ему тайну сидящего в клетке и расскажет еще кое-что забавное. Каноник изъявил согласие и, проехав вместе со своими слугами и священником вперед, внимательно выслушал все, что тот рассказал о звании, нраве, образе жизни и безумии Дон Кихота, вкратце остановившись на первопричине его умопомешательства, а также на всех его похождениях, вплоть до того, как он был посажен в клетку, и поделившись с каноником своим намерением отвезти его домой и там уже взяться за его лечение. Слушая необычайную историю Дон Кихота, каноник и его люди снова давались диву; выслушав же ее, каноник сказал:
— Признаюсь, сеньор священник, я совершенно уверен, что так называемые рыцарские романы приносят государству вред, и хотя, движимый праздным и ложным любопытством, я прочитал начала почти всех вышедших из печати романов, но так и не мог принудить себя дочитать ни одного из них до конца, ибо я полагаю, что все они, в общем, на один покрой и в одном то же, что и в другом, а в другом то же, что и в третьем. И еще я склонен думать, что этот род писаний и сочинений приближается к так называемым милетским сказкам[253], этим нелепым басням, которые стремятся к тому, чтобы услаждать, но не поучать — в противоположность апологам, которые не только услаждают, но и поучают. Если же основная цель подобных романов — услаждать, то вряд ли они ее достигают, ибо они изобилуют чудовищными нелепостями. Между тем душа наслаждается лишь тогда, когда в явлениях, предносящихся взору нашему или воображению, она наблюдает и созерцает красоту и стройность, а все безобразное и несогласное никакого удовольствия доставить не может. А когда так, то какая же может быть красота и соответствие частей с целым и целого с частями в романе или повести, где великана ростом с башню шестнадцатилетний юнец разрезает мечом надвое, точно он из пряничного теста, и где сам автор, описывая битву, сообщает, что силы неприятеля исчислялись в миллион воинов, но коль скоро против них выступил главный герой, то мы, хотим или не хотим, волей-неволей должны верить, что рыцарь этот достигнул победы одною лишь доблестью могучей своей длани? А что вы скажете об этих королевах или же будущих императрицах, которым ничего не стоит броситься в объятия незнакомого странствующего рыцаря? Кто, кроме умов неразвитых и грубых, получит удовольствие, читая о том, что громадная башня с рыцарями плавает по морю, точно корабль при попутном ветре, и ночует в Ломбардии, а рассвет встречает на земле пресвитера Иоанна Индийского, а то еще и на такой, которую ни Птолемей[254] не описывал, ни Марко Поло[255] не видывал? Мне могут возразить, что сочинители рыцарских романов так и пишут их, как вещи вымышленные, а потому они, мол, не обязаны соблюдать все тонкости и гнаться за правдоподобием, — я же на это скажу, что вымысел тем лучше, чем он правдоподобнее, и тем отраднее, чем больше в нем возможного и вероятного. Произведения, основанные на вымысле, должны быть доступны пониманию читателей, их надлежит писать так, чтобы, упрощая невероятности, сглаживая преувеличения и приковывая внимание, они изумляли, захватывали, восхищали и развлекали таким образом, чтобы изумление и восторг шли рука об руку. Но всего этого не может достигнуть тот, кто избегает правдоподобия и подражания природе, а в них-то и заключается совершенство произведения. Я не знаю ни одного рыцарского романа, где бы все члены повествования составляли единое тело, так что середина соответствовала бы началу, а конец — началу и середине, — все они состоят из стольких членов, что кажется, будто сочинитель вместо хорошо сложенной фигуры задумал создать какое-то чудище или же урода. Кроме того, слог в этих романах груб, подвиги неправдоподобны, любовь похотлива, вежливость неуклюжа, битвы утомительны, рассуждения глупы, путешествия нелепы — словом, с искусством разумным они ничего общего не имеют и по этой причине подлежат изгнанию из христианского государства наравне с людьми бесполезными.