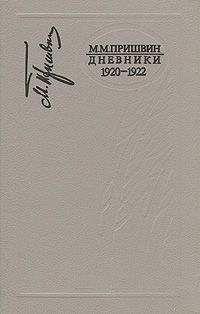М. Пришвин - Дневники 1914-1917
Прислушиваясь к глухим ударам волн, похожим на выстрелы, я хожу возле черных железных ворот нашего дома с винтовкой, из которой не умею стрелять: я охраняю жильцов нашего дома от нападения грабителей. В тесном пролете я хожу взад и вперед, как, бывало, юношей ходил из угла в угол по камере тюрьмы [312] с постоянной мыслью, когда же освободят меня, когда мир освободится от власти капиталистов, когда настанет всемирная освободительная катастрофа, когда настанет, по Эрфуртской программе [313], диктатура пролетариата.
Вот совершилась теперь мировая катастрофа и наступила диктатура пролетариата, а я по-прежнему в тюрьме, и лучшие часы, когда так я хожу с винтовкой, из которой не умею стрелять.
Я в нее теперь не верю, и если бы она совершилась, я бы ее не принял за решение, потому что я знаю теперь, что врата рая открываются и Архангел пропускает туда поодиночке опрошенных святых.
Девочки-гимназистки Катя, Женя и Соня приходят иногда посмотреть на меня и посмеяться на мой воинственный вид с винтовкой, из которой я не умею стрелять. Они покупают антоновку, и мы едим яблоки из мешочка и смеемся. Сегодня они приходят серьезные, бледные, сегодня у них заговор какой-то. Девочки спрашивают:
— А кто из них Марат? [314]
Я понимаю: им хочется разыграть роль Шарлотты Корде [315] и освободить Петроград от тиранов.
— Ленин или Троцкий? Кто больше похож на Марата? — спрашивают гимназистки.
В ответ я стал им рассказывать про Архангела, который стоит на карауле у дверей, спрашивает имена достойных людей и пропускает поодиночке всех.
Я им сказал, что большевики <похожи> на Ленина и Троцкого — это авангард разлагающейся армии.
— А где же Марат? И кто Марат?
— Нет никого…
8 Ноября. Вошел ко мне один из них <2 нрзб.> клоп с папироской во рту и стал разговаривать о политике: признает огромное мировое значение за большевистским переворотом.
— Россия, — сказал он, — со всеми своими естественными богатствами представляет колоссальное наследство. Большевики разорвали завещание, и спутали все карты, и вызвали всеобщий мировой передел.
Потом он стал мне раскрывать о мировом значении кусающихся насекомых.
— Велик ли клоп, — сказал он, — а укусит ночью, и громадный человек просыпается.
На Октябрьское восстание у меня устанавливается такой взгляд: это не большевики, это первый авангард разбегающейся армии, которая требует у страны мира и хлеба.
Подпольно думаю, не вся ли революция в этом роде, начиная с Февраля? Не потому ли и Керенского так ненавидят, что он стал поперек пути этой лавины?
Входит хозяйка из керосиновой очереди и великую новость сообщает:
— Ленин хочет объявить Германии войну!
— Причины: дерзкий ответ Вильгельма большевикам на предложение мира.
Хозяйка видела двух матросов Балтийского флота, сказала им новость, и они будто бы ответили:
— Будем драться до полной победы.
Слышал о каких-то блуждающих корпусах, называли несколько нумеров и мест их блужданий, не помню точно ни нумеров, ни переходов, а так слышать странно:
— Блуждающие корпуса.
В детстве, помню, так же загадочно, необыкновенно говорили про умирающую тетушку:
— У нее блуждающие почки!
И все похоже на смерть тетушки с богатым наследством: она умерла без завещания, <3 нрзб.>.
Странная женщина моя хозяйка, она совершенно не признает переворота и ежедневно молится за царя, и что он жив, то считает, будто он и царствует. Мне, как образованному и вообще высшему существу, она прощает всякое отношение к царю, но простым людям в очередях, даже красногвардейцам, прямо говорит:
— Вы изменник царю.
Красногвардейцев она называет «шатия», шатающиеся люди, все эти <люди>, кто кормится крохами с царского стола, — черносотенцы.
Ее не трогают, потому что считают за сумасшедшую. Сегодня принесли избирательные списки, она пересмотрела и спросила:
— Который же за царя? Ответили:
— У нас республика. За царя нет.
— Я за царя, — сказала она. И бросила списки. Керенского она ненавидит.
На сегодня, слава Богу, я освобожден от дежурства у ворот с винтовкой, из которой не умею стрелять, и могу вечером записать о дне прошедшем. Ничего яркого: всеобщая забастовка против большевиков. Даже сосед мой, художник, перестал писать картину. Он писал и во время войны, и во время революции, днем при свете масляными красками, вечером при электричестве акварелью, при открытой форточке, через которую слышались выстрелы. Он был моим утешителем. Теперь сказал:
— Не могу.
На улице мороз и снег лежит. Бывало, радуешься и слышишь:
— С обновкой, с обновкой.
А теперь думаешь об армии, что она голодная и холодная.
За день на трамваях и на улицах много раз слышишь язвительные замечания насчет 3/4 фунта хлеба на два дня:
— А обещали!
И видел я на Невском много лошадей, которые подохли от истощения.
Неужели так скоро будет и с нами? Кто выручит нас, кто разделит между нами наследство умирающей матери, неужели мы доведем до суда? Если дойдет до суда (Европы?), я от своей части отказываюсь.
Талант — это быт внутреннего свободного человека, это дом свободы.
Мы все смеялись над племянницей моей Соней, как она весной прыгала по революции, восхищалась красными флагами, пела вместе с толпой «Вставай, поднимайся», и прозвали ее Козочкой.
Как она раз после одного выстрела из пушки прибежала к нам в восторге:
— Вот такое ядро над головой пролетело! И показала руками диаметр в аршин. Как мы смеялись!
Теперь Козочка больше не прыгает: она ничего не боится, но ей все противно на улице и стрельба теперь ненавистна. Раз видела где-то в театре красивого кавказца и от душевного голода влюбилась в него. Идешь с ней по улице, вдруг вся преобразится и сияет радостью.
Увидела где-то своего легендарного кавказца.
Наверно, не тот, но все равно похоже, лишь бы имел вид кавказца.
В церкви много народа, священник молится:
— Господи, умили сердца!
А на улице за оградой церковной кто-то спрашивает:
— Ну, пришли хоть к какому-нибудь соглашению? Отвечает другой:
— Никакого не может быть с ними соглашения. В церкви молятся:
— Умили сердца!
А я молюсь за церковной оградой: Господи, помоги все понять, все вынести, и не забыть, и не простить!
Скорбная приходит ко мне Козочка: ей бы только прыгать да песенки петь — семнадцать лет! а вот она такая взволнованная, брови рожками, лоб наморщенный — задумала Россию спасать, спрашивает:
— Кто у нас Марат?
— Ты хочешь, как Шарлотта Корде?
— Да, я хочу. Кто Марат: Ленин, Троцкий? Кто похож на жабу?
— На жабу никто не похож, деточка, но, может быть, не побрезгуешь убить Шимпанзе?
— Обезьяну? Нет, обезьяну не хочу.
Пристала и пристала: подавай ей настоящего Марата, похожего на земляную жабу.
Думал я думал, что с голодной бешеной девкой делать, и достал ей билет на Шаляпина, прослушал с ней певца, и забыла про Шарлотту Корде.
Отвел Шаляпин сердце девочки или долетела молитва из церкви:
— Господи, умили сердца!
Радуюсь я за Козочку, <2 нрзб.>, слава Богу, миновала чаша ребенка, а для себя, потихоньку твержу неустанно, но верно свою молитву, обращенную к неведомому, но верю, твердо верю настоящему Богу: «Господи, помоги мне все понять, все вынести, и не забыть, и не простить!»
11 Ноября. У последнего конца.
Мар. Мих. говорит, что слышала от лица, бывшего в штабе Савинкова, еще до восстания Корнилова, что Керенский сказал Савинкову: «Вместе с Корниловым вы вызываете контрреволюцию, я умываю руки».
Одни говорят, что все дело погубил Керенский, другие — Савинков. Ненужно разбираться в документах для выяснения этого. Ясно, что Савинкову нужен был Корнилов для подавления Советов, а Керенский примыкал к Советам. И оба погубили себя, один генералом, другой Советом.
Всюду говорят, что социалисты-революционеры погубили и себя, и Керенского, не оказав ему поддержки.
Вся революция показывает невероятное непонимание демократической интеллигенцией народа и обратно. По-видимому, первопричина этого непонимания лежит в различии самой веры первых революционеров и веры народа. Большевизм есть общее дитя и народа, и революционной интеллигенции. Большевистский интернационализм ничто иное, как доведенная до крайности религия человечества. Это и погубило Россию, а не как теперь говорят: погубили Советы, погубил Савинков, погубил Керенский (меньше всех виноват Корнилов).
Еще часто говорят, что Правительство с самого начала должно было заявить державам, что мы не можем воевать: в результате худшим было бы нынешнее положение. Но это явно было невозможно, потому что тогда громадное большинство населения было на стороне «буржуазии».