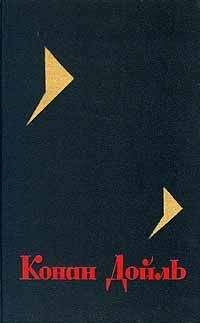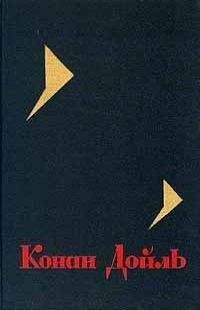Михаил Салтыков-Щедрин - Благонамеренные речи
Тебеньков на эту диатрибу только свистнул в ответ и, улегшись с ногами на диван, замурлыкал себе под нос из "m-me Angot":[437]
Elle est tellement innocente
Quelle ne comprend presque rien![438]
Я тоже недоумевал. Я мысленно спрашивал себя, в какой степени возможно продолжение разговора, предмет которого грозит перейти на чебоксарскую почву? Можно ли, например, оспоривать, что чебоксарская подоплека добротнее французской? не будет ли это противно тем инстинктам отечестволюбия, которые так дороги моему сердцу? не рассердит ли это, наконец, Плешивцева, который хоть и приятель, а вдруг возьмет да крикнет: «Караул! измена?!» И ничего ты с ним не поделаешь, потому что он крепко стоит на чебоксарской почве, а ты колеблешься! Хороши Чебоксары, прекрасен Наровчат, но когда перед тобой начнут сравнивать их с Парижем в ущерб последнему – тебе все-таки совестно. А ему, Максиму Михайлову Плешивцеву, потомку майора, ездившего за две тысячи верст за севрюжиной для Потемкина, не только не совестно, но он даже цветнее от этих сравнений делается!
Тем не менее вопрос, о котором зашла у нас речь, представлял для меня такой интерес, что я решился довести нашу беседу до конца, хотя бы даже Плешивцев и обвинил меня в измене.
– Итак, ты в целой Франции, в ее истории, в ее гении ничего не видишь, кроме "La belle Helene"? – сказал я вновь.
– Ничего!
– "La belle Helene"? Mais je trouve que c'est encore ties joli Гa![439] Она познакомила нашу армию и флоты с классическою древностью! – воскликнул Тебеньков. – На днях приходит ко мне капитан Потугин: «Правда ли, говорит, Александр Петрович, что в древности греческий царь Менелай был?» – «А вы, говорю, откуда узнали?» – «В Александринке, говорит, господина Марковецкого на днях видел!»
– Вот она… французская-то цивилизация! Смотри на него! любуйся! – трагически произнес Плешивцев, протягивая руку по направлению Тебенькова.
– А ты хочешь от меня примеров чебоксарской цивилизации! Успокойся, душа моя! их много найдется и во Франции! Есть, голубчик, есть! Вспомни лурдские богомолья, вспомни парэ-ле-мониальское посвящение Иисусову сердцу! Право, хоть сейчас в Чебоксары!
– И в самом деле! – ободрился я, – ведь это тоже своего рода подоплека!
– И даже едва ли не более добротная, нежели чебоксарская! По крайней мере, это подоплека, выразившаяся независимо от начальственных поощрений, тогда как, если вглядеться попристальнее в чебоксарскую подоплеку, то наверное увидишь на ней следы исправника или станового!
– А ведь это правда, что чебоксарская-то подоплека немного тово… как будто помята руками особ, на заставах команду имеющих… что ты скажешь на это, Плешивцев?
– Что говорить! Шутить изволите – ну и шутите!
– Хорошо. Будем говорить серьезно, – сказал Тебеньков. – Отбросим в сторону «подоплеки», "гнили", "жизни духа" и другие метафоры, которыми ты так охотно уснащаешь свой разговор, и постараемся резюмировать сущность сказанного тобою по поводу похождений господина Тейтча в германском рейхстаге. Эта сущность, выраженная в грубой, но правдивой форме, заключается в следующем: человек, который в свои отношения к явлениям природы и жизни допускает элемент сознательности, не должен иметь претензии ни на религиозность, ни на любовь к отечеству? Est-ce Гa, mon vieux?[440]
– Ca да не да.[441] Сознательность бывает разная. Я, например, сознаю себя русским – это сознательность здоровая, сильная, освежающая. Но ежели сознательность родит Тебеньковых… извини меня, я такой сознательности и уважать не могу!
– Благодарю – не ожидал! Так что, например, ежели я не верю, что будущий урожай или неурожай зависит от того, катали или не катали попа по полю в Егорьев день, как верят этому господа чебоксарцы, то я не могу называть себя религиозным человеком? Так ведь?
– Продолжайте, Александр Петрович, продолжайте!
– Но ведь это логически выходит из всех твоих заявлений! Подумай только: тебя спрашивают, имеет ли право француз любить свое отечество? а ты отвечаешь: "Нет, не имеет, потому что он приобрел привычку анализировать свои чувства, развешивать их на унцы и граны; а вот чебоксарец – тот имеет, потому что он ничего не анализирует, а просто идет в огонь и в воду!" Стало быть, по-твоему, для патриотизма нет лучшего помещения, как невежественный и полудикий чебоксарец, который и границ-то своего отечества не знает!
– Для того чтобы любить родину, нет надобности знать ее географические границы. Человек любит родину, потому что об ней говорит ему все нутро его! В человеке есть внутреннее чутье! Оно лучше всякого учебника укажет ему те границы, о которых ты так много хлопочешь!
– То есть, не столько "внутреннее чутье", сколько начальственное распоряжение. Скажет начальство чебоксарцу: вот город Золотоноша, в котором живут всё враги; любезный чебоксарец! возьми и предай Золотоношу огню и мечу! И чебоксарец исполнит все это.
– Врешь ты! Этого не может быть!
– Это было, Плешивцев. Вспомни удельный период: вспомни в позднейшее время Тверь, Новгород, Псков…
– Это совсем не то! это были усобицы! это были внутренние неурядицы! это…
Ясно было, что Плешивцев окончательно начинает терять хладнокровие, что он, вообще плохой спорщик, дошел уже до такой степени раздражения, когда всякое возражение, всякий запрос принимают размеры оскорбления. При таком расположении духа одного из спорящих первоначальный предмет спора постепенно затемняется, и на сцену бог весть откуда выступают всевозможные детали, совершенно ненужные для разъяснения дела. Поэтому я решился напомнить друзьям моим, что полемика их зашла слишком далеко.
– К вопросу, господа! – сказал я, – Вопрос заключается в следующем: вследствие неудач, испытанных Францией во время последней войны, Бисмарк отнял у последней Эльзас и Лотарингию и присоединил их к Германии. Имеет ли он право требовать, чтобы жители присоединенных провинций считали Германию своим отечеством и любили это новое отечество точно так, как бы оно было для них старым отечеством?
– Не Бисмарк, а народ! понимаешь! не германское государство, которое воплощает собою Бисмарк, а германский народ!
– А народ германский, стало быть, имеет это право?
– Имеет.
– На каком же основании?
– А на том основании, что его нравственная физиономия выше, нежели нравственная физиономия какого-нибудь эльзасца, воспитанного в растлевающей французской школе!
– Послушай! но ведь это своего рода дарвинизм, своеобразный, но все-таки дарвинизм. По твоему мнению, организм более нравственный имеет право порабощать организм менее нравственный?
– Не порабощать, а преображать, просветлять. Для развращенного, лишенного нравственной подкладки эльзасца это не порабощение, а просветление. Да-с.
– Но кто же судья в этом деле? кому принадлежит право решать, какой организм более нравствен и какой организм менее нравствен!
– Судья в этом деле – совесть самого более нравственного организма, его собственное сознание принадлежащего ему права и как результат этого сознания – успех.
– Так что, если, например, ты признаешь себя относительно меня и Тебенькова более нравственным организмом, то ты имеешь право просветлять нас по всей твоей воле?
– Имею-с.
– И немцы имеют право сказать эльзасцам: отныне вы обязываетесь любить нас?
– Имеют-с. И не только имеют основание теоретически заявить об этом праве, но и достигать его осуществления. И достигнут-с.
– Так что ежели эльзасцы будут продолжать упорствовать…
– То они докажут этим, что для них нужна школа. И получат ее.
– Mais с'est juste ce que je dis:[442] люби не люби, а подплясывай! – вставил Тебеньков.
– Но ты забыл, душа моя, что присоединение Эльзаса и Лотарингии есть результат войны, что шансы войны подвержены множеству случайностей! ты забыл, что случайности эти одинаковы для всех и что таким образом и Чебоксары могут подвергнуться процессу просветления… Опомнись!
– Не случайности, а пути провидения! Слышишь! Я не признаю случайностей! Я знаю только провидение!
– Но Чебоксары?..
Это был крик моего сердца, мучительный крик, не встретивший, впрочем, отзыва. И я, и Плешивцев – мы оба умолкли, как бы подавленные одним и тем же вопросом: "Но Чебоксары?!!" Только Тебеньков по-прежнему смотрел на нас ясными, колючими глазами и втихомолку посмеивался. Наконец он заговорил.
– Господа! – сказал он, – к удивлению моему, я с каждым днем все больше и больше убеждаюсь, что как ни беспощадна полемика, которую ведет против меня наш общий друг Плешивцев, но, в сущности, мы ни по одному вопросу ни в чем существенном не расходимся. Он требует для человека почвы, и я требую для человека почвы. Он признает, что есть известные основы, без которых общество не может существовать, и я признаю, что есть известные основы, без которых общество не может существовать. Он уважает религию, и я уважаю религию. Он консерватор, и я консерватор. Разница между нами заключается в том, что я употребляю некоторые выражения, которые не по душе Плешивцеву, а он употребляет некоторые выражения, которые не по душе мне. Но смею думать, что это только диалектические особенности, ибо, ежели резюмировать наши убеждения в кратчайшей форме, отрешив их от диалектических приемов, а особенно ежели взять во внимание те практические применения, которые эти убеждения получают, проходя сквозь горнило департамента, в котором мы оба служим, то, право, окажется, что вся наша полемика есть не что иное, как большое диалектическое недоразумение. Мы оба требуем от масс подчинения, а во имя чего мы этого требуем – во имя ли принципов «порядка» или во имя "жизни духа" – право, это еще не суть важно, Blanc bonnet, bonnet Blanc[443] – вот и всё. Следовательно, нам нужно только отказаться от некоторых мудреных и малоупотребительных выражений – и все недоразумения исчезнут. Не правда ли, Плешивцев? Скажи по совести, ведь мы можем подать друг другу руки?