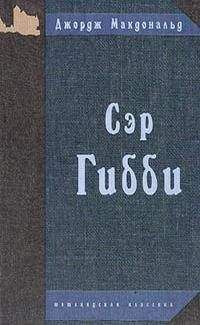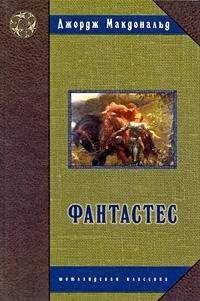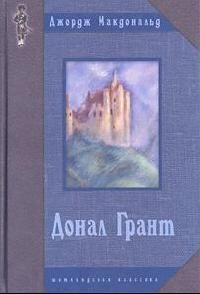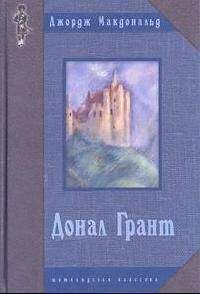Джордж Макдональд - Сэр Гибби
— Какой чудесный вечер! — сказал Донал после того, как все поздоровались.
— Мы с сэром Гибби как раз прогуливались в обществе луны. Она сегодня такая яркая, что своим светом, кажется, может даже тучи разогнать, правда, мэм? Но нет, они всё равно её заглотят. Вон какая чернущая туча надвигается. Видите? Вон та, с белой полоской вокруг шеи… Видите? — продолжал он, показывая на тучи, окружившие луну. — С этой тучей ей уж точно не справиться: того и гляди эта громадина обнимет её со всех сторон и высосет из неё весь свет. Доброй ночи, мэм. Доброй ночи, Фергюс. Только вам священникам негоже ходить, как чёрным тучам. Одевайтесь лучше в белые одежды с золотом и драгоценными камнями — как в новом Иерусалиме, о котором вы рассказываете такие сказки. Тогда всем сразу будет понятно, что за весть вы нам несёте.
С этими словами Донал поклонился и зашагал прочь, на мгновение почувствовав некоторое облечение. Но не успели они свернуть за угол, как он не выдержал.
— Гибби, — воскликнул он, — этот мошенник собирается жениться на нашей барышне! Просто сердце разрывается, когда я об этом думаю! Ах, если бы я мог хоть раз с ней поговорить — хоть раз, один — единственный раз! Господи! Что же теперь будет с маргаритками в глашгарской долине и с вереском на наших холмах!
Он заплакал, но в следующее мгновение смахнул слёзы с глаз, негодуя на свою слабость.
— Что ж, от судьбы не убежишь, — сказал он и замолчал.
В лунном свете лицо Гибби стало совсем бледным, и губы его задрожали. Он взял Донала под руку, тесно к нему прижался, и они вместе в молчании отправились домой. Когда они поднялись по лестнице, Донал шагнул в свою комнату и захлопнул дверь прямо перед носом у Гибби. Тот с минуту ошарашенно смотрел ему вслед, но потом, внезапно придя в себя, повернулся, сбежал вниз и помчался на Даурстрит.
Когда ему открыли дверь дома, где жил священник, Гибби направился прямо в столовую, зная, что в этот час мистер и миссис Склейтер обычно ужинают. К счастью, как раз в этот момент мистер Склейтер сидел у себя в кабинете со стаканчиком пунша, отдыхая после праведных трудов. Со дня злополучного ужина мистер Склейтер всегда приказывал подать послеобеденное виски к себе в кабинет и выпивал рюмочку — другую в одиночестве. Самому себе он говорил, что поступает так исключительно для того, чтобы не напоминать Гибби о его печальном прошлом. Но на самом деле, к его чести будь сказано, он начал несколько стыдиться этой своей привычки.
Миссис Склейтер сидела в столовой одна. Увидев Гибби, она поднялась и тут же провела его к себе. Они долго о чём — то разговаривали, и на следующий день Гибби получил от миссис Склейтер записку, в которой она приглашала обоих мальчиков придти к ней в гости в ближайший четверг.
Глава 52
Каменоломня
В четверг Донал, равнодушный к тому, что завтра на уроке может опозориться перед своими товарищами, бросил все дела и вместе с Гибби отправился к миссис Склейтер: конечно же, Джиневра тоже будет там! Вечер был ясный; полоска пшеничного цвета окаймляла западный край неба, серо — зелёного в лучах заходящего солнца и постепенно переходящего в глубокий тёмно — синий цвет. Эта светлая полоска походила на острое лезвие огромного топора зимы и стужи, которое вот — вот полоснёт по самой душе. Но мальчикам было не холодно: они были здоровы и полны надежды. Их встретили гостеприимные тёмно — красные стены гостиной, круглый стол, накрытый к чаю на шотландский манер, и жарко полыхающее пламя в камине. А около камина сидела Джиневра, поставив хорошенькие ножки на скамеечку. В те дни дамы носили открытые туфельки, открывающие взорам изящные чулки. В свете огня её лицо казалось порозовевшим, но, когда она обернулась к Доналу и Гибби, они увидели, что она по обыкновению бледна. Она поздоровалась с ними так же просто и искренне, как и раньше, на берегу Лорри, но Гибби прочитал в её глазах тревогу и беспокойство, ибо его душа чутко, как тонкий духовный прибор, откликалась на малейшие колебания души ближнего. Священника дома не было, и миссис Склейтер пришлось взять на себя заботу о том, чтобы изо всех сил раздувать тлеющие угли беседы, потому что какими бы горячими и огненными они ни были, без неё в этой маленькой компании вряд ли показался бы даже маленький язычок пламени общего разговора.
После чая Гибби подошёл к окну, отодвинул бордовые занавески и выглянул на улицу. Вернувшись к остальным, Гибби жестами показал Джиневре, что погода стоит замечательная. Может быть, лучше пойти погулять?
Джиневра вопросительно посмотрела на миссис Склейтер.
— Гибби хочет, чтобы я пошла с ними прогуляться, — сказала она.
— Ну конечно, милая, — если ты себя хорошо чувствуешь, — улыбнулась та.
— Я всегда хорошо себя чувствую, — ответила Джиневра.
— Я с вами пойти не могу, — сказала миссис Склейтер. — Муж должен вернуться с минуты на минуту. Да это и не нужно, ведь у тебя есть двое прекрасных рыцарей, которые будут тебя охранять.
Миссис Склейтер осознавала, что слегка погрешила против приличий. Но, в конце концов, сказала она себе, она же так хорошо знает всех троих! Донал, только сейчас понявший замысел Гибби, бросил на него благодарный взгляд, а Джиневра поспешно поднялась и поспешила в переднюю, чтобы надеть пальто. Донал видел, что она довольна.
Когда они вышли на улицу, их встретила луна, светлая королева небесных сфер, грациозно проплывающая в тёмной глубине. Она не была всевластной госпожой неба, но посеребрённые облака почтительно сопровождали её, и приближаясь, всякий раз заново облачались в её ливрею, расцвеченную бледным подобием радужных красок, ибо её молочная белизна не способна произвести ничего по — настоящему яркого, и тот странный коричневый цвет, который мы так часто видим на её слугах, должно быть, является дальним собратом знакомого нам красного или оранжевого. В её воздушном царстве царили покой и величавость, и даже Доналу, знай он её подлинное состояние, было бы трудно примирить этот покой с её вечной безжизненностью. Как странно, что человек не знает ничего холоднее этого света, что издавна сияет на всех влюблённых, — ничего холоднее этого мертвенного сияния, застывшего за миллионы лет до того, как первый отец и первая мать человечества впервые увидели друг друга!
Воздух был морозным, но сухим. С неба на землю могли спуститься лишь снежинки, но все они собрались сегодня в тихой вышине, чтобы услужить красавице — луне. Между облаками и вокруг них не было ничего, кроме глубины, бездонной и бескрайней в ночной синеве; только в такой мягкой и дивной глубине могут жить блистающие звёзды. Шаги молодых людей гулким эхом отдавались в тишине, и собственный голос казался Доналу таким громким, что он постарался закутать его в нежные и тихие слова. Он говорил почти шёпотом, и Джиневра отвечала ему так же. Они шли совсем рядом, а Гибби то отставал от них, до снова догонял, появляясь то с одной, то с другой стороны.
— Как Вам понравилась проповедь, мэм? — спросил Донал.
— Папа сказал, что она была замечательной, — ответила Джиневра.
— А Вы сами? — настаивал Донал.
— Папа говорит, что не мне об этом судить, — тихо откликнулась она.
— То есть, Вы хотите сказать, что Вам она не понравилась так, как ему, — проговорил Донал, и в голосе его послышались нотки облегчения.
— Мистер Дафф очень добр к моему отцу, Донал, — сказала Джиневра, — и мне не хочется говорить ничего плохого о его проповеди. Но я всё время думала, что бы сказала о ней твоя мама, что ей понравилось бы, а что нет. Ведь знаешь, Донал, если во мне и есть что хорошего, этим я обязана только ей, Гибби и… и тебе, Донал.
Сердце юноши забилось такой радостью, что ему стало больно. Будь у него крылья, он птицей взмыл бы сейчас прямо вверх. Но будучи трезвым двуногим созданием, он продолжал шагать, крепко ступая по мостовой счастливыми ногами. Он с радостью показал бы ей всю показную фальшивость Фергюса и доказал, что он пустой, поверхностный болтун, только и умеющий пускать пыль в глаза. Но именно потому, что у него были причины его опасаться, Донал решил, что с его стороны будет недостойно и не по — мужски говорить всё, что он думает о Фергюсе, за его спиной — разве только это будет продиктовано явной нравственной необходимостью. Кроме того, он понимал, что если сама Джиневра чувствовала себя обязанной таким образом сохранять честь друга своего отца, то он был обязан ему, по меньшей мере, молчанием. Ибо разве он сам не обязан этому щёголю — пустозвону стольким, что целой вечности не хватило бы, чтобы отплатить ему той же монетой (если бы вечность вообще могла искупать подобные долги)? Донал понимал то, что понимают немногие: тот, кто поступается своим долгом, повинен в бесчестности. Ничего не поделаешь, но это так; и при таком раскладе множество хороших людей (то есть, хороших в том смысле, что они понемногу становятся лучше) немедленно оказываются в списке бесчестных — и останутся в нём до тех пор, пока не вспомнят про свой долг.