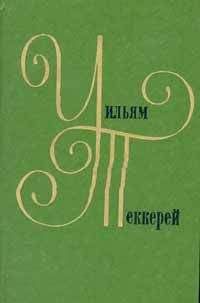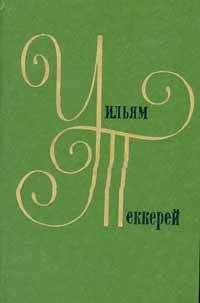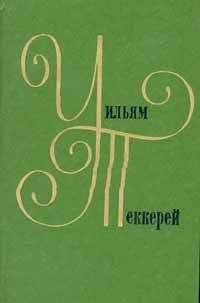Уильям Теккерей - Ньюкомы, жизнеописание одной весьма почтенной семьи, составленное Артуром Пенденнисом, эсквайром (книга 1)
В Риме есть свое английское светское общество, которое ходит смотреть Колизей, освещенный голубыми огнями, спешит в Ватикан, чтобы при свете факелов полюбоваться статуями, переполняет церкви на праздниках, — стоит в своих черных вуалях и парадных мундирах и глазеет, и болтает, и смотрит в бинокли, пока римские первосвященники творят свои древние обряды, а верующие молятся на коленях пред алтарем. У этого общества — свои балы и обеды, свои скандалы, сплетни, своя знать, свои парвеню, приживалы, привезенные из Белгрэйвии, свой клуб, своя охота и свой Хайд-парк на Пинчо. Но есть там и другая маленькая Англия — широкополая, длиннобородая, бархатно-курточная колония веселых живописцев; они живут бок о бок со своими титулованными соплеменниками, но не имеют чести знать их: у них свои пиры, свои места встреч, свои развлечения.
Клайв и Джей Джей занимали уютную с высокими потолками квартирку на Виа-Грегориана. Многие поколения художников обитали в этих комнатах, а затем отправились дальше. Окна мастерской смотрели в старый затейливый сад, где стояли древние статуи времен императоров, лопотал фонтан и росли благородные апельсиновые деревья с пучками широких листьев и золотыми шарами плодов, веселивших глаз. А сколько удовольствия получали друзья от прогулок по городу! На каждой улице их поджидали десятки восхитительных картин настоящей итальянской жизни, от которых все, как один отвернулись наши живописцы, предпочитая рисовать своих оперных бандитов, "контадини", "пифферари" и тому подобное, очевидно лишь потому, что Томпсон писал их до Джонca, а Джонс — до Брауна, и так до Адама. На улицах играли дети; женщины стояли кучками перед распахнутыми настежь дверьми домов — в Риме такая мягкая зима. Еще здесь были, словно сошедшие с картин Микеланджело, безобразные, зловещего вида старухи в царственных лохмотьях; матери с целыми выводками ребятишек; чернобородые крестьяне с благородными лицами, застывшие в живописных позах, — флегматичные, оборванные и величавые. Здесь проходили красные, черные, синие отряды священного воинства; полки смешных и важных капуцинов в табачного цвета рясах; лощеные французские аббаты; его преосвященство господин епископ в сопровождении лакея (какие чудные у них лакеи!); и господин кардинал в своем старом рыдване с двумя, нет, с тремя ливрейными на запятках, одетыми как в английской пантомиме (его карета вся расписана гербами и шлемами — так и кажется, будто она тоже появилась откуда-то из пантомимы и вот-вот превратится во что-нибудь другое). Так уж повелось на свете: что одному представляется великим, другого — смешит; а иные скептики просто не замечают того расстояния в один шаг, которое, как мы слышали, отделяет великое от смешного.
"Я искренне хотел бы думать по-иному, — писал Клайв в одном из своих писем, в которых изливал тогда душу. — Я вижу, с какой верой творят эти люди молитву, и завидую их благодати. Один мой знакомец, приверженец старой религии, повел меня на прошлой неделе в церковь, где недавно какому-то джентльмену иудейского происхождения самолично явилась Дева Мария: она спустилась к нему с небес во всем своем божественном сиянии и, разумеется, в тот же миг обратила его. Мой друг попросил меня смотреть на картину, а сам, опустившись рядом со мной на колени, стал молиться, и я знаю, от полноты своего чистого сердца просил, чтоб и мне воссиял свет истины. Но мне не было никакого знамения; я видел только плохонькую картину, алтарь с мерцающими свечами и церковь, пестро убранную полосками красного и белого коленкора. Милый, добрый В., уходя, смиренно сказал, что "чудо может повториться, если на то будет воля божия". Я невольно почувствовал какое-то умиление перед этим славным человеком. Я знаю, что дела его согласны с его верой, что питается он крохами, живет праведно, как отшельник, и все раздает бедным.
Нашего друга, Джей Джея, который во многом на меня непохож и во всех отношениях лучше меня, чрезвычайно трогают эти обряды. Они, думается, отвечают какой-то его душевной потребности; и он уходит ублаготворенный, словно с пиршества, на котором я не нашел себе пищу. Конечно, первое наше паломничество было к Святому Петру. Ах, что за прогулка! Под какой великолепной сенью идешь; каким величьем и свободой дышат здания с высокими окнами, просторными внутренними дворами и огромными сумрачными порталами, сквозь которые и великаны могут пройти, не снимая своих тюрбанов. Эти покрытые вековой грязью и благородной плесенью дома — в два раза выше нашего Лемб-Корта. Над их пышными порталами красуются таинственные древние гербы — огромные щиты князей и кардиналов, которые, верно, под силу было бы снять только рыцарям Ариосто; любая фигура на них уже сама по себе произведение искусства. За каждым поворотом — храм, и посреди каждого двора журчат струи фонтана. Кроме людей, заполняющих улицы и дома, и целой армии черных и коричневых священников, здесь еще множество безмолвных мраморных жителей. Здесь и увечные боги, свергнутые с Олимпа, поврежденные при падении и посаженные в нишах и над фонтанами; сенаторы, безымянные, безносые, безгласные — одни сидят под арками, другие прячутся в садах и двориках. А еще, кроме бывших богов и правителей, чьи, так сказать, останки, являют собой эти древние изваяния, здесь представлена и ныне царствующая фамилия — целая иерархия высеченных из камня ангелов, святых, и апостолов из последней династии, победившей дом Юпитера.
Слушай, Пен, почему бы Уорингтону не написать "Историю последних язычников"? Разве не случалось тебе испытывать к ним сочувствие, читая, как монахи врывались в их храмы, крушили их злосчастные алтари, разбивали прекрасные и безмятежные лица богов и распугивали весталок? Здесь постоянно вспоминают в проповедях о гонениях на христиан и в церквах полным-полно мучеников с секирами, воткнутыми в их смиренные головы, девственниц на раскаленных рашперах, святых Себастьянов, изрешеченных стрелами, и всего такого прочего. Но разве они сами никого не преследовали? Как бы не так! Нам ли с тобой об этом не знать?! Ведь мы выросли близ загонов Смитфильда, где по очереди поджаривали друг друга протестанты и католики.
Идешь меж двумя рядами святых и ангелов по мосту над Тибром, и кажется, будто эти изваяния живы: огромные их крылья звенят, мраморные складки одежды колышатся; святой Михаил, разящий дьявола, застигнут и увековечен в бронзе в тот самый миг, когда он опустился на кровлю замка Святого Ангела, сквозь которую враг его, без сомнения, провалился внутрь и даже дальше — в тартарары. Он отлит, как строчка белого стиха, этот бронзовый ангел — безыскусственный, соразмерный, грандиозный. Когда-нибудь, сэр, я уверен, вы поймете, что это своего рода гигантский сонет. Мильтон отливал свои строки из бронзы; Вергилий, по-моему, вытесал "Георгики" из мрамора — прекрасные, безмятежные линии, изысканная гармония формы. А что до "Энеиды", сэр, то она представляется мне длинным рядом барельефов и орнаментов, каковые не производят на меня особого впечатления.
Но, кажется, я потерял из виду Святого Петра. А между тем, он достаточно велик. Как начинает биться сердце, когда он впервые предстает вашим глазам. Мы испытали это чувство, когда ночью прибыли из Чивитавеккиа и узрели призрачно-величавый темный купол; он торжественно встал перед нами в сумерках и сопутствовал нам всю дорогу, так похожий на упавшее с неба и погасшее светило. Когда вы видите его со стороны Пинчо на фоне заката, право, земля и небо являют собой одно из самых величавых зрелищ на свете. Мне не хочется говорить, что фасад храма тяжел и некрасив. Пока виден царственный купол, фасад можно стерпеть. Вы идете к нему через двор, и какой прекрасный! Струи фонтана летят навстречу солнечным лучам, а справа и слева от вас двумя стремительными полукружьями расходятся высокие колонны. Минуя царедворцев, вы приближаетесь к ступеням трона, купол исчезает из виду. Теперь вам начинает казаться, что трон опрокинулся, и владыка низвергнут.
Бывают минуты, особенно в Риме, когда благожелательный человек, признающий себя англичанином и протестантом, не может не сокрушаться при мысли, что он и его соплеменники-островитяне, отрезаны от европейского христианства, что между нами море. С того и другого берега видны в ясную погоду прибрежные скалы, и хочется порой, чтобы нас не разделяла бурная пучина, и паломники могли свободно ходить из Кентербери в Рим, не подвергаясь опасности утонуть, миновав Дувр. Я уверен, что иные из нас и понятия не имеют о красотах великой Колыбели христианства; мы рисуем себе ленивых монахов, иссохших в заточении девственниц, темных крестьян, которые поклоняются деревяшке и камню, продажу индульгенций, отпущение грехов и прочие банальности протестантской сатиры. Но вот передо мной надпись, пламенеющая на куполе храма, огромном и величественном, точно свод небес, и кажется, слова эти начертаны звездами. Она возвещает миру, что се — Петр и на камне сем воздвигнется Церковь, которой не одолеть всем силам ада. Под бронзовым шатром — престол его, озаренный светильниками, что горят здесь уже много веков подряд. Вокруг этого изумительного чертога стоят его князья. Их мраморные фигуры кажутся воплощением веры. Иные из них только вчера были живы; другие, которые тоже будут взысканы благодатью, ходят пока еще по земле, и лет через сто наместники неба, собравшись здесь на свой конклав, торжественно причислят их к лику святых. Примеров их божественной силы искать не придется. Они и сейчас, как восемнадцать веков назад, исцеляют недужных, открывают глаза незрячим и заставляют ходить хромых. Разве мало найдется свидетелей сотворяемых ими чудес? И разве нет здесь судилища, призванного разбирать их притязания на ангельский чин, с адвокатами, выступающими "за" и "против", с прелатами, патерами и прихожанами, готовыми уверовать и возгласить: "Аллилуйя!" Вы можете сегодня облобызать руку священнику, который пожимал руку монаху, чьи кости уже творят чудеса и чей духовный наставник недавно объявлен святым, — так, рука за руку, они образуют длинную цепь, и конец ее теряется в небесах. Давай же, друг, признаем все это и пойдем целовать ногу Святого Петра. Но увы! Меж нами все так же текут воды Ла-Манша, и мы не больше верим в чудеса святого Фомы Кентерберийского, чем в то, что в двухтысячном году кости преподобного Джона Берда, ныне занимающего кафедру святого Фомы, будут исцелять недужных, что статуя его заговорит, или что портрет его кисти сэра Томаса Лоуренса возьмет и кому-нибудь подмигнет.