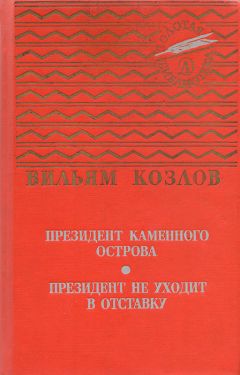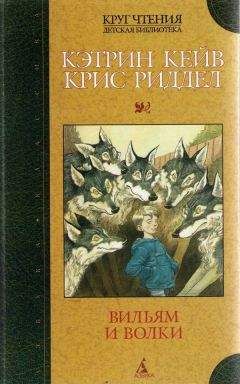Вильям Хайнесен - Избранное
Все лица изумленно повернулись к двери, но полицейский Дебес уже испарился, смекнув, чем пахнет дело.
— Плевать на него, — сказал кузнец с легкой ухмылкой. Он поднялся с места. Настала его очередь говорить речь.
Такое случалось не часто, а быть может, вообще происходило первый и последний раз в истории. Кузнец был великолепен в своем облегающем черном сюртуке, подчеркивавшем мощную красоту его мускулистого тела, и с ярко-красным маком в петлице.
— Здесь, среди нас, присутствует граф, — начал он, — человек голубой крови, предки которого скакали верхом на раззолоченных конях и вонзали острие своего копья в грудь врагов, которые тоже были графы, бароны и доблестные рыцари, о чем все мы можем прочитать в добрых старинных книгах, а также многое можем услышать в наших знаменитых и прекрасных народных балладах.
Кузнец разговорился, вошел во вкус, жестикулировал громадными жилистыми кулачищами, тараща глаза в пространство. Он выражался высокопарно и пользовался такими словами, которых никто не ожидал услышать из уст этого простого человека.
— Они скакали наперерез друг другу, закованные в латы и кирасы, и подставляли под удары свой незапятнанный щит. Но потом р-раз! Копье впивалось, пройдя меж пластинами брони, и противник грохался с коня и жалко корчился в грязи, а окровавленный конь его мчался домой с поля брани. Вот это были времена! Тогда никто не сносил, как сейчас, грязных оскорблений. Тогда царило кулачное право и победитель со славой и почестями возвращался домой, к своей возлюбленной, ожидавшей его у окна светлицы. И вот, как я уже сказал, среди нас присутствует потомок тех древних родов, но мало того, он еще пришел к нам с собственным оркестром, сильнейшим, единственным и лучшим, какой он только мог составить, и тем самым он оказал нам честь, за которую заслуживает величайшей благодарности. Так пусть же выстрелят пробки, и мы поднимем бокалы и крикнем девятикратное ура в честь графа!
Снова полилось вино, и гром здравиц сотрясал кузнечные поковки и листы железа, заставляя их дребезжать и звенеть. А потом кузнец взял графа под руку, и процессия во главе с оркестром и мужским хором двинулась через расцвеченный яркими огнями сад.
Сириус остался в кузнице. Он сидел на топчане возле остывшего горна, бледный и невеселый.
— Я вроде как устал от этого шума и гама, — сказал он, силясь улыбнуться.
— Ну вот, вечно тебе надо все испортить! — фыркнула Юлия. — Что с тобой такое?
— Сам не знаю, Юлия, плохо мне как-то, неможется. — Сириус искренне терзался угрызениями совести. — Может, пройдет. Давай немножко отдышимся.
— Отдышимся! — передразнила Юлия. — Уже! Когда мы даже и не начали как следует!
Взгляд у Юлии был раздосадованный, она до того походила на свою брюзгливую мамашу, что Сириусу стало больно. Он вздохнул:
— Юлия, дорогая, но ты можешь идти в «Дельфин», а я приду попозже.
— То-то хороша будет картинка! — Юлия усмехнулась, чуть не плача. Но вдруг она разом переменилась и обрела подкупающее сходство со своим отцом: — Знаешь, Сириус, а вид у тебя из рук вон плохой! Может, лишнего выпил? Тебя тошнит?
— Нет-нет, это не потому. Но ты в самом деле иди, Юлия. Право, никто и внимания не обратит, что меня какое-то время не будет. А я покамест пойду наверх, немножко прилягу.
— Тогда и я с тобой пойду, — ответила Юлия, метнув на него нежный, нерешительный взгляд. В этом взгляде была вся Юлия, он был не чей-нибудь, а ее. «Вот такая она у меня», — подумал Сириус.
Они поднялись в свою чердачную комнатушку. Сириус в изнеможении повалился на кровать, а Юлия присела рядом.
— Вот увидишь, это скоро пройдет, — ласково говорила она, гладя его бледные свежевыбритые щеки.
Сириус почти мгновенно уснул. Юлия пожала плечами, подошла к зеркалу и поправила прическу. Немного погодя она уже шагала в «Дельфин».
Сириус дремал с полчаса, он грезил и фантазировал, а потом вдруг сразу очнулся и с ослепительной отчетливостью вспомнил только что виденный сон.
…Он шел берегом какого-то озера, по темной глади которого плавали необыкновенные иссиня-белые птицы, а вокруг, насколько хватал глаз, тоже было полным-полно редкостных птиц: розовые фламинго важно и грациозно расхаживали, издавая глубокие мелодичные звуки, райские птицы переливались алмазно чистыми красками, в небе медленно парили птицы, сотканные из одного лишь светящегося тумана. Он обернулся к Юлии и торжествующе воскликнул:
— Каково, а!
Но рядом с ним была уже не Юлия, а Леонора!
— Леонора! — сказал он. — Ты здесь?
Она улыбнулась:
— Да, конечно, я здесь.
И тут она вдруг запела, и голос ее звучал с неземной теплотой и прозрачностью… и каждый куплет длинной прекрасной песни кончался словами: «Ночь твоей свадьбы».
Сириус узнал стихи — ведь это его собственные, он слушал, зачарованный дивной гармонией, многоголосой, блаженной гармонией, в которой сплелись и голоса тех диковинных птиц, как сплетаются партии инструментов в гремящем оркестре.
…Ночь твоей свадьбы.
Леонора! О боже!
Сириус встал с постели. У него почернело в глазах, и начался мучительный приступ кашля, но потом, когда кашель прошел, он почувствовал, что теперь ему лучше. Он отворил окно. Деревья и кусты в саду кузнеца тихо шелестели от легкого вечернего бриза, а пестрые фонарики покачивались, нереально, призрачно мерцая.
…Ночь твоей свадьбы.
Сириуса охватило глубокое изумление и чувство невыразимой благодарности к Леоноре, которая явилась ему во сне и пела для него. Твердая, доверительная интонация ее ответа: «Конечно, я здесь», — до сих пор звучала у него в ушах.
Снизу, из кузницы, послышалось пение и возбужденные возгласы, дурашливый и надоедный пьяный гвалт, словно ножом вспоровший божественно ясное, заполненное воспоминаниями одиночество. Он затворил окно.
Что же дальше?
Он не испытывал желания быть вместе с остальными, даже с Юлией. Ему хотелось лишь как можно дольше остаться одному.
Он снова лег на кровать и сквозь слабость ощутил беспредельное блаженство оттого, что он один… один со своим сном, с песней, с Леонорой.
Юлия слонялась без цели, не зная, куда себя деть. Сперва заглянула в ресторан, где стоял пир горой и в воздухе клубами висели душные испарения съестного и алкоголя, от которых затеснило в груди и пропал всякий аппетит. Затем постояла немного в танцевальном зале, где уже начались танцы. Подумала, вот бы пойти потанцевать, как будто она просто молодая девушка, незамужняя.
Обратно домой. Но Сириус все еще спит.
Снова прочь.
Нет на свете никого бесприютнее покинутой женихом невесты. Всякий, кто видит ее, уверен, что она просто поджидает своего жениха и что, стало быть, ее одиночество кратковременно и случайно. Тот, кто еще достаточно трезв, приветливо кивает: невесте — наши поздравления, а остальные, и таких большинство, даже не замечают ее, тем более что надвинулись вечерние сумерки. Она бродит туда-сюда как неприкаянная.
Она одна, одна.
Пестрые фонарики в саду постепенно гаснут. Один из них занялся огнем. Она видит, как он пожирает самое себя — ну и пусть горит, она стоит и смотрит, пока от него не остаются одни лишь белесые клочья пепла, улетающие в темноту.
Вот и это кончилось.
Она опять идет к Сириусу, он лежит с закрытыми глазами, ужасно бледный. На нее вдруг находит страх: дышит ли он или, может?.. Нет, он дышит, он открывает глаза и бросает на нее ласковый взгляд, гладит ее руку, и она на минутку присаживается к нему на кровать. Но вот он вновь забывается сном, и ее опять влечет туда, в эту суматошную, празднично шумливую ночь, где, однако, на долю бродячей невесты досталось лишь одиночество.
И в конце концов, подавленная одиночеством, грустная и озябшая, она садится на старую гнилую скамью в укромном уголке сада и погружается в странное, безнадежное раздумье.
И тут-то возникает перед нею в сумраке фигура Матте-Гока.
— Ты тут сидишь в полном одиночестве?
Юлия не знает, что ответить. Она молчит.
— А где же твой муж, Юлия? — дружелюбно спрашивает он.
Она по-прежнему молчит.
— Тебе нечего меня бояться, — говорит Матте-Гок и без всяких церемоний садится рядом на скамью. Он берет ее холодную руку и говорит тихим, проникновенным голосом:
— Юлия. Напрасно вы от нас сбежали. Слышишь? Ну, будь умницей, позови Сириуса и пойдем к нам в «Идун», там тепло и уютно, и всем нам так хочется, чтобы вы побыли с нами.
Он крепко сжимает ей руку и придвигается ближе, она чувствует тепло, исходящее от его тела.
— Ты же замерзла, бедняжка! — говорит он, бережно прижимая ее к себе, она чувствует его дыхание, она отстраняется и убегает, только совсем не в ту сторону, в которую нужно: за скамью и дальше, в густой кустарник. Он за нею, настигает ее. Происходит тихая и нежная борьба, которая кончается тем, что она сдается… однако не раньше, чем вырывает у него обещание ради всего святого сохранить это в тайне…