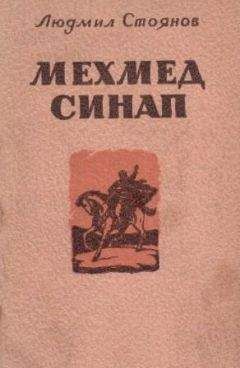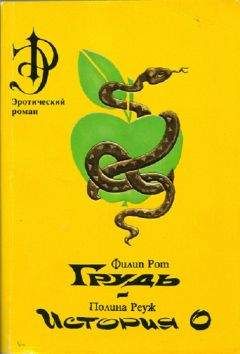Людмил Стоянов - Избранная проза
Когда отряд окружил убежище преступника, солнце уже взошло. Из-за каждой скалы, каждого куста выглядывало дуло винтовки. Завывал пронзительный горный ветер, он румянил щеки и леденил пальцы. В небесной лазури кружились орлы, медленно чертя в небе правильные круги, словно в ожидании скорой добычи. Вложив в рот два пальца, Хатидже издала протяжный свист, привычный еще с детства. Общее затаенное ожидание, длившееся несколько минут. Хатидже свистнула второй раз, и вслед за этим глыба, прикрывавшая вход в пещеру, отодвинулась. Это был маленький заброшенный рудник, глубокий и сухой, удобный приют для ночных духов.
Высокая, мужественная фигура Моллы Юмера выросла у входа в пещеру. Видимо, обрадованный и немного встревоженный, он собирался спуститься вниз, как вдруг, увидев торчащие штыки, отскочил и, словно затравленный зверь, спрятался за глыбу.
— В чем дело, Хатидже? — крикнул он.
— Юмер, — сказала она голосом, полным слез и раскаяния, обожания и мольбы. — Господин офицер обещал, что ты будешь помилован, если сдашься добровольно. Они хотели увести меня в город, чтобы выманить тебя отсюда, но сейчас этого не нужно, потому что ты будешь помилован…
Она говорила несвязно и уже сама не верила своим словам. Мучительная боль и сознание страшной, неповторимой беды разрывали все ее существо.
— Что ты наделала, несчастная! — вскричал Молла Юмер, и в тот же миг будто горы обрушились над его головой и мир завертелся в гибельной свистопляске. Он вполз в пещеру и взял свое ружье; затем опять выбрался наружу и занял удобную позицию за камнем. Всего в нескольких шагах от него среди кустов ежевики и дикого шиповника стояла Хатидже, несказанно прекрасная в этот ранний час, в чистом воздухе, насыщенном солнечными лучами и прозрачном, как кристалл. Она озиралась вокруг, словно вспугнутая птица, и повторяла одно и то же:
— Юмер, Юмер, дорогой…
Грянул выстрел; звучное эхо огласило лес и взмыло вверх, к вершинам. Хатидже почувствовала, как что-то обожгло ее под левой лопаткой; в следующее мгновение ноги у нее подкосились и перед глазами метнулась огромная тень ее Юмера; земля внезапно ушла у нее из-под ног, и она полетела в темное, глухое пространство.
— Слушай! — крикнул офицер. — Нас двадцать человек. Все равно ты от нас не уйдешь…
Наступила тишина, которая, как хищник, пожирала ожидание. Раздалась команда; солдаты щелкнули затворами, встревоженные куропатки вспорхнули и скрылись из глаз. Вдруг послышался бодрый голос преступника, прозвучали слова, простые и твердые:
— Теслимя се, кардашлар! (Сдаюсь, ребята!)
Выпрямившись во весь свой рост, он бросил ружье на землю и стал спускаться. Не останавливаясь, равнодушно перешагнул через распростертый труп жены. Двадцать штыков были направлены ему в грудь. В один миг руки его были скручены назад и связаны; он даже не противился. Сильный удар прикладом в спину, и он, опустив голову, покорно двинулся вперед.
1922 г. Перевод К. Бучинской и К. Найдова-ЖелезоваМилосердие Марса
Говорят, что в Америке убивают электричеством. Я в Америке не бывал, но хитроумное изобретение янки меня отнюдь не поражает.
Электричеством! Это, должно быть, смерть легкая и приятная. Оглушительный треск в мозгу, острая боль в суставах, вибрация всего тела, и ты стремительно проваливаешься в бездну сквозь светящиеся концентрические круги, а затем — тишина, не сравнимая даже с безмолвием межпланетного пространства.
Вот это поистине завидная, изумительная смерть.
Нет, мы умерщвляем куда проще. Ножом, камнем, топором — точь-в-точь как наши пещерные предки. Удар в спину — и кости хрустят, зрачки закатываются, человек валится, как срубленное дерево. Правда, иной раз смертников набирается изрядное число — человек пятьдесят, тридцать, двадцать, десять, в таких случаях операция усложняется, но от этого не делается невыполнимой, — они ведь все связаны, и проткнуть штыком эту человеческую массу не представляет особого труда, а затем трупы сбрасывают в какую-нибудь яму, и по ночам вокруг нее беснуются стаи бездомных собак.
Но почему же мы прибегаем именно к таким средствам — странно, не правда ли?
Стрелять строжайше запрещено — вот почему…
А не то мы бы прибегали к расстрелам. Мы ведь находимся в побежденной, но не покорившейся стране[56] и поэтому вынуждены создавать хотя бы видимость спокойствия. Никакой пальбы. Зачем понапрасну тревожить мирное население?
Но существует ли оно вообще — это мирное население? Оно либо разбежалось, либо уничтожено. Фактически поставленное вне закона, оно истребляется, подобно тому как истребляются саранча или волчье племя.
Да и что в этом необычного? Чувство отвращения к окружающим, ко всему миру, к самому себе все реже и реже посещает меня в последнее время, прежние угрызения совести исчезли, и я плыву по течению. Не для того ли господь бог лишил нас всех рассудка, что захотел еще раз, после великого потопа, перестроить мир, захлестнутый морем крови? Такие мысли приходят мне теперь в голову после каждой стопки ракии.
Мы пьем вдвоем с капитаном. Собственно, для него пьянство — давняя привычка. Можно подумать, что он так, с этой привычкой, и родился. У этого невысокого, сухого человечка с тонкими усиками на обрюзглом круглом лице, испещренном красными прожилками, одно божество — мундир, один храм — казарма. Он исполняет приказы начальства с суеверным благоговением: даже собаке неведома подобная преданность. Капитан опрокидывает очередную стопку, морщится и вытирает рот тыльной стороной ладони.
— Вот так, молодой человек, все они — сволочи. И жалеть их нечего, нечего! Пей! Все забудется.
В его участок входит несколько сел, которые ему надлежит в буквальном смысле «обезлюдить». Он исполняет свои высокогуманные обязанности с достоинством и твердостью. Во всяком случае, рюмку он держит далеко не так твердо. Капитан искренне обрадовался, когда я подсел к нему. Он чувствует себя польщенным и спешит поделиться со мной своей мудростью.
— Думаешь, если попадешься им в лапы — они тебя помилуют? Как бы не так! Мигом спустят шкуру.
Вошла старая крестьянка и низко поклонилась капитану. Господин офицер — добрый человек. Наверно, и у него тоже есть дети. Так не позволит ли он забрать головы двух ее сыновей, которые валяются там, за холмом, она хочет предать их земле на сельском кладбище.
Я поднимаюсь, стиснув зубы, и выхожу в другую комнату, — сквозь винные пары мой мозг все же смутно сознает весь ужас происходящего. «Да это никакая не война и не революция, — мешаются мысли в моей голове. — А просто бессмысленное кровопролитие, безудержный разгул Марса».
К дому подошли солдаты, конвоирующие шестерых местных жителей. Среди них и учитель из соседнего села, у которого я ночевал совсем недавно. Их привели ко мне на допрос. Надо же соблюдать хотя бы видимость законности.
Мне всего двадцать два года, но виски мои уже седые.
Арестованные по одному входят в канцелярию, и допрос начинается.
Они и понятия не имеют, за что арестованы. Одного задержали, когда он возвращался с похорон маленького сына, другой копал канаву, отводя воду из сада, а третий вывозил навоз в поле. Учитель тоже недоумевает, зачем его привели сюда. А мне-то самому — что тут нужно? Как я очутился в этом аду? Может быть, это лишь кошмарный сон?
Иду к капитану с докладом.
— Эти люди ни в чем не повинны, — говорю ему. — Абсолютно ни в чем. Надо отпустить их — пусть занимаются своими делами.
Капитан поднимает новую стопку и гогочет:
— Ха-ха-ха! Раз попались, значит, виноваты. В приказе ясно сказано: невиноватых нету — понял? Неповинны? А что они делали за околицей в такое время? Почему шляются без всякого дела? Овечки безвинные! И ты со своей ученой башкой веришь им!
Подумав мгновение, говорит:
— Дай сюда протоколы.
В протоколах подробно описано как, когда и при каких обстоятельствах задержан каждый.
— Н-да, — бормочет капитан, переворачивая страницы, и тяжело сопит. — Все против нас, братец. Мерзавцы! Никому нельзя верить. — Затем берет перо и дрожащей, пьяной рукою выводит наискосок поверх машинописного текста: «В соответствии с приказом № 17, как пособников бандитов…»
— Нет! — в ужасе кричу я.
— Писарь, ко мне! — зовет капитан, и его стеклянные, ничего не выражающие глаза вдруг оживляются. — В штаб полка на утверждение! — передает он бумаги писарю, который тянется по стойке «смирно».
Солдат молча берет документы, чеканит: «Слушаюсь!» — и выходит. Капитан смотрит на меня снисходительно и торжествующе, и мне кажется, что он — сам кровожадный бог войны.