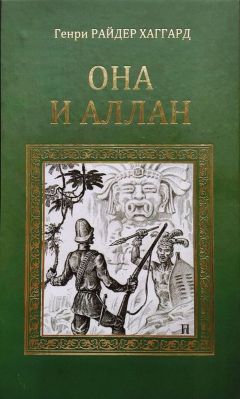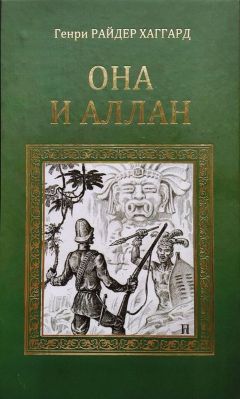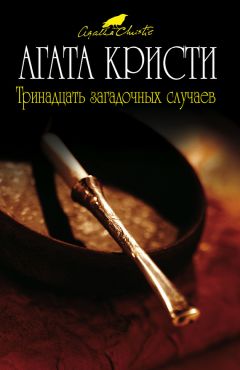Луи Селин - Путешествие на край ночи
Она не плакала. Она зажгла свечку, свет от которой я заметил. И правда, я увидел в глубине маленький труп, одетый в матросский костюмчик. Он лежал на матраце: голова и шея синеватые, как свет от свечки, выступали из широкого голубого квадратного воротника. Зато мать его очень плакала, стоя на коленях рядом с ним, и отец тоже. Потом они начали стенать все вместе. Но мне очень хотелось пить.
— Не можете ли вы продать мне бутылку вина? — спросил я.
— Спросите у матери… Она, может быть, знает, есть ли еще… Немцы у нас много выпили, когда проходили…
Они стали потихоньку совещаться все вместе.
— Нет больше, — вернулась дочка с сообщением, — немцы все взяли… Они за наш счет попользовались, и даже очень…
— Ну и пили же они! — заметила вдруг мать и сразу перестала плакать. — Понравилось, видно…
— Верно, больше ста бутылок, — прибавил отец, все еще стоя на коленях.
— Значит, ни одной больше не осталось? — настаивал я; очень мне хотелось бы выпить белого горьковатого вина: оно освежает. — Я хорошо заплачу…
— Осталось только очень хорошее. — сказала мать.
— Пять франков бутылка.
— Ладно! — И я вытащил мои пять франков из кармана, большую монету.
— Пойди принеси бутылку, — велела она потихоньку дочери.
Дочь взяла свечку и вернулась через минуту с литром вина.
Мне подали вино, я выпил его, мне оставалось только уйти.
— А что, они вернутся? — спросил я опять с беспокойством.
— Может быть, — ответили они хором, — но тогда они все сожгут… Они обещали перед тем, как уйти…
— Пойду посмотрю, в чем дело.
— Ишь какой храбрый!.. Они там, — показывал мне отец в направлении Нуарсера-на-Лисе.
Он даже вышел на дорогу, чтобы посмотреть мне вслед. Мать и дочь остались подле маленького трупа.
— Иди сюда! — звали они его из дому. — Иди сюда, Жозеф! Тебе там нечего делать…
— Вы очень храбрый, — повторил еще раз отец и пожал мне руку.
Я опять потрусил на север.
— Не говорите им только, что мы еще здесь! — Девушка вышла, чтобы крикнуть мне это вслед.
— Они и так это завтра увидят, — отвечал я, — тут вы или нет. — Я был недоволен тем, что отдал им свои пять франков. Эти пять франков встали между нами. Пять франков достаточно для того, чтобы ненавидеть кого-нибудь и желать, чтобы все люди сдохли. И пока на этом свете существуют пять франков, лишней любви не будет.
— Завтра? — повторяли они с сомнением.
Завтра для них тоже было где-то далеко, оно не очень много имело смысла. Для всех нас было важно прожить еще один лишний час, а в мире, где все свелось к убийству, час был вещью феноменальной.
Ехать пришлось недолго — от дерева к дереву, ожидая, чтобы кто-нибудь в меня выстрелил или окликнул. Но, слава Богу, обошлось.
Должно быть, было два часа ночи, не больше, когда я шагом взобрался на пригорок. Отсюда я разом увидел внизу ряды, много рядов газовых фонарей и потом, на первом плане, освещенный вокзал с вагонами, буфетом… Шума же оттуда не доносилось никакого. Ничего. Улицы, проспекты, фонари и еще много световых параллелей, целые кварталы, а потом только тьма, пустота, жадная пустота вокруг города, раскинувшегося передо мной, как будто его так, освещенным, потеряли среди ночи. Я слез с лошади и присел на кочку.
Все это опять-таки не говорило мне, находятся ли немцы в Нуарсере, но так как я знал, что, занимая город, они обычно его поджигают, то, если они в городе и не поджигают его, значит, у них есть какие-то особые планы и соображения.
Пушек тоже не было слышно, и это было подозрительно.
Лошади моей хотелось лечь. Она тянула за уздцы, и я обернулся. Когда я опять посмотрел в сторону города, что-то изменилось на кочке, незначительно, но все-таки достаточно для того, чтобы я крикнул: «Эй! Кто идет?» Перемещение теней произошло в нескольких шагах… Там кто-то был.
— Не ори! — ответил тяжелый, хриплый, несомненно французский голос. — Тоже отстал, что ли? — спросил он меня.
Теперь я его разглядел: пехотинец с щеголевато согнутым козырьком. После стольких лет я еще помню эту минуту, его силуэт, вылезающий из травы, как на ярмарках в былые времена мишени, изображающие солдат.
Мы подошли ближе друг к другу. Я держал револьвер в руке. Еще минута, и я бы выстрелил неизвестно почему.
— Слушай, — спрашивает он меня, — ты их видел?
— Нет, но я здесь для того, чтобы увидеть их.
— Ты из 145-го драгунского?
— Да, а ты?
— Я из запасного…
— А! Из запаса… — Меня это удивило. Это был первый запасной, которого я встретил во время войны. Мы всегда были с солдатами, находящимися на действительной службе. Я не мог разглядеть его лица, но самый его голос уже был не такой, как наши голоса, как будто более грустный. Поэтому я отнесся к нему с некоторым доверием.
— С меня довольно, — повторял он, — иду к немцам сдаваться в плен…
Он говорил начистоту.
— А как?
Меня вдруг заинтересовало больше всего, как он обделает это дело.
— Не знаю еще…
— А как ты сбежал?.. Сдаться в плен — дело нелегкое.
— Чихать мне, пойду и сдамся.
— Боишься?
— Боюсь, и если хочешь знать, наплевать мне на немцев: они меня не обижали…
— Тише, может быть, они подслушивают…
Мне казалось, что надо быть вежливым и с немцами. Мне хотелось, чтобы этот запасной объяснил мне уж кстати, почему у меня нет храбрости, чтобы воевать, как все остальные. Но он ничего не объяснял, он только повторял, что с него довольно…
Тогда он мне рассказал, как накануне, на заре, весь его полк бросился бежать врассыпную из-за наших стрелков, которые по ошибке открыли по ним огонь. Их полк не ждали вовсе, они пришли на три часа раньше. Тогда стрелки, усталые, пораженные, стали осыпать их пулями. Эта песня была мне знакома, мне ее уже пели.
— Ну, сам понимаешь, что мне это было на руку! — прибавил он. — «Робинзон! — говорю я себе. — Это мое имя — Робинзон. Я — Робинзон Леон! Ты даешь ходу сейчас или никогда…» Верно? И побежал я, значит, вдоль лесочка, и представь себе, что тут встретил нашего капитана… Стоит он, прислонившись к дереву, поддели его здорово. И собирается околевать… Держится за штаны и плюется. Кровища так и хлещет из него, а глаза так и ходят… Один стоит. Совсем, вижу, крышка ему… «Мама! Мама!» — скулит и помирает и кровью мочится… «Заткнись! — говорю ему. — Мама! Начхать ей на тебя, твоей мамаше!..» Так, понимаешь, между прочим… Можешь быть покоен, получил полное удовольствие. Сука этакая… Что, миляга? В кои веки доведется сказать капитану правду в глаза… Как не попользоваться? Большая редкость! И чтобы было легче бежать, я побросал все вместе с оружием… в утиное болотце, рядом… Представь себе, вот ведь дело какое: совсем мне не хочется никого убивать, не обучили меня этому. Я и в мирные-то времена не любил скандалов. Всегда отходил в сторонку… Так что представляешь себе?.. Когда я еще был штатским, я пробовал ходить каждый день на завод, но мне это не нравилось: там все ссорятся. Я больше любил продавать вечерние газеты где-нибудь в спокойном квартале, где меня знают, вокруг Государственного банка, например… Если хочешь знать, на площади Победы, на улице Пти-Шан опять-таки… Это был мой участок… Утром я работал рассыльным у коммерсантов… Отнеси то, другое после обеда… словом, оборачивался… Иногда делал какую-нибудь черную работу… Но с оружием я дела иметь не желаю! Если немцы тебя встретят с оружием, можешь не сомневаться — ухлопают. Другое дело, если ты так прогуливаешься… Ничего ни в руках, ни в карманах… Понимаешь, они чувствуют, что им легче будет тебя взять в плен… Сразу видно, с кем имеешь дело… Лучше было бы попасться к немцам в чем мать родила… Как лошадь. Тогда им нипочем не узнать, к какой армии принадлежит человек.
— Это правда!
Я начинал понимать, что возраст кое-что значит для углубленности мысли, с возрастом становишься опытнее.
— Там они, что ли? А?
Мы оценивали и обсуждали наши шансы, как на картах, загадывая о нашем будущем на большом, освещенном, раскинувшемся перед нами городе.
— Пошли?
Сначала надо было перейти через железнодорожный путь. Если там стоят часовые, то они откроют по нам стрельбу. А может быть, и нет. Посмотрим! Как пройти — через туннель или по верху?..
— Надо поторапливаться, — прибавил еще этот Робинзон. — Делать это нужно ночью: днем люди враги и все делают напоказ, днем, видишь ли, даже на войне настоящий базар… Рысака берешь с собой?
— Беру.
Предосторожность на случай, если нас плохо примут. Мы дошли до шлагбаума, задравшего кверху свои большие красные и белые руки. Я никогда не видел таких шлагбаумов, в окрестностях Парижа они не такие.
— Ты думаешь, что они уже в городе?
— Обязательно, — говорит он. — Иди, иди!
Теперь нам приходилось быть храбрее храбрых, из-за лошади, которая спокойно шла за нами, будто толкая нас в спину цоканьем — цок, цок! — своих подков.