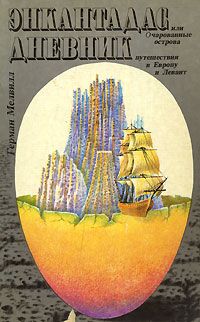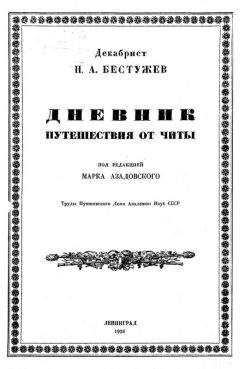Генри Филдинг - Дневник путешествия в Лиссабон
Понедельник, июля 8. Проведя воскресенье без чего-либо примечательного, если не считать таковым большого количества пойманных мерланов, мы подняли парус сегодня в шесть часов утра при небольшой перемене ветра; но перемена была так ничтожна и самый бриз так слаб, что нашим лучшим, вернее сказать, чуть ли не единственным другом оставался отлив. Он прогнал нас вдоль короткого остатка Кентского побережья, где мы миновали утес Дувра, который играет такую большую роль у Шекспира,[63] что у каждого, кто читает о нем без головокружения, по словам мистера Аддисона, голова либо очень хорошая, либо очень плохая, но если у кого-либо возникают подобные ощущения при его виде, значит, он обладает поэтическим, а может быть, и шекспировским гением.[64] В самом деле, горы, реки, герои и боги в большей мере обязаны своим существованием поэтам: Греция и Италия так изобилуют первыми, потому что они произвели такое множество последних, а те, даря бессмертие каждому малому холмику и подземному ручью, оставили самые благородные реки и горы в такой же тьме, в какой пребывают восточные и западные поэты, их воспевающие.
Нынче вечером лавировали близ берега Сассекса в виду Данджинесса, что было очень приятно, но никуда нас не продвинуло: ветер улегся, и луна, уже почти полная, ни одному облачку не дала скрыть ее лик.
Вторник, среда, июля 9 и 10. Эти два дня погода была такая же прекрасная, а продвижение наше такое же незначительное, но сегодня к вечеру на С-С-3 возник положительно свежий ветер, и сегодня утром мы оказались в виду острова Уайт.
Четверг, июля 11. Ветер этот дул до полудня, и восточный конец острова был теперь чуть впереди нас. Капитану очень не хотелось становиться на якорь, он заявил, что останется в море, но ветер его пересилил, и часа в три он отказался от победы и, внезапно переменив галс, устремился к берегу, прошел Спитхед и Портсмут и бросил якорь возле местечка под названием Райд, на острове. Так же поступили несколько торговых судов, которые следовали за нашим командиром от самого Даунса и так внимательно следили за его маневрами, точно считали себя в опасности, если не равнялись на него в своих движениях.
Нынче в море произошел в высшей степени трагический случай. Пока корабль был под парусом, но, как поймет читатель, не продвигался вперед, один котенок из четырех кошачьих обитателей каюты свалился из окна в воду. Об этом тотчас доложили капитану, который в это время находился на палубе, и он отнесся к делу очень серьезно. Он тотчас дал рулевому приказ помочь несчастному созданию, как он назвал котенка; паруса тотчас были ослаблены, и все до одного, как говорится, бросились на помощь несчастному животному. Меня все это, сказать по правде, сильно удивило: не столько нежность, выказанная капитаном, сколько его надежда на успех, ибо если бы у киски было не девять жизней, а девять тысяч, я бы решил, что она их все потеряла.[65] Но у боцмана было больше оптимизма: скинув бушлат, брюки и рубаху, он прыгнул в воду и, к великому моему изумлению, через несколько минут вернулся на корабль, держа недвижимое животное в зубах. И это, как я заметил, было не так трудно, как показалось сперва моему невежеству, а может, покажется и моему пресноводному читателю; котенка уложили на палубе, на воздухе и на солнце, и все поставили крест на его жизни, признаков коей словно бы и не осталось.
Гуманность капитана, если так можно ее назвать, не настолько перевесила его философию, чтобы он долго предавался печали по этому грустному поводу. Он принял утрату как мужчина и решил показать, что так же может нести ее; и, заявив, что его больше огорчило бы потерять бочонок рома или бренди, засел играть в триктрак с португальским монахом, в каковом невинном развлечении они проводили свободные часы.
Но так как я, может быть, слишком резво старался пробудить в моем рассказе нежные чувства моих читателей, я счел бы непростительным не утешить их сообщением, что киска все же поправилась, к великой радости доброго капитана, но и к великому разочарованию некоторых матросов, уверявших, что утопление кошки – самый верный способ вызвать благоприятный ветер, предположение, причины которого мы не осмеливаемся коснуться, хотя и слышали о том несколько правдоподобных теорий.
Пятница, июля 12. Сегодня дамы сходили на берег в Райде и с большим удовольствием пили чай в тамошней таверне, их там угостили свежими сливками, которых они и не видели с тех пор, как покинули Дауне.
Суббота, июля 13. Так как ветер, казалось, собирался и дальше дуть из того же угла, откуда он почти без перерыва дул два месяца кряду, жена уговорила меня перебраться на берег и пожить до отплытия в Райде. Меня это очень привлекало, ибо как я ни люблю море, теперь я решил, что приятнее будет подышать свежим духом земли; но вопрос был в том, как туда попасть, ибо, будучи тем мертвым грузом, к которому я в начале этого повествования отнес всех пассажиров, и неспособный к передвижению без содействия извне, я не мог и думать о том, чтобы покинуть корабль или решиться на это без посторонней помощи. В одном отношении, пожалуй, живой груз труднее передвинуть или сдвинуть, чем такого же или большего веса мертвый груз: тот, если он хрупкий, может поломаться от небрежения, но этого при должной осторожности почти наверняка можно избежать, а вот переломов, каким подвергаются живые тюки, не избежать ни при какой осторожности, и часто их не залечить никаким искусством.
Я размышлял о способах переправы – не столько с корабля в лодку, сколько из утлой лодчонки на берег. Это последнее, как я успел убедиться на Темзе, не так-то легко, когда собственных твоих сил на это не хватает. Пока я взвешивал, как помочь делу, особенно не вдумываясь в несколько планов, предлагавшихся капитаном и матросами, и даже без особого внимания слушая жену, которая вместе со своей подругой и моей дочерью проявляли нежную заботу о моих удобствах и безопасности, сама судьба (ибо я убежден, что здесь без нее не обошлось) прислала мне в подарок барашка; подарок был и сам по себе желанный, а тем более из-за судна, которое его доставило – небольшого берегового гукара, какие кое-где называют кораблями и полюбоваться которыми люди отправляются за несколько миль. На этой посудине меня перевезли без труда, но снять меня с нее и доставить на берег оказалось не легко. Как ни странно это может показаться, для этого не хватало воды – пример, объясняющий эту строку Овидия:
Omnia Pontus erant, deerant quoque littora Ponto,[66] —
не так тавтологически, как принято их толковать.
Дело в том, что между морем и берегом во время отлива образовалась непроходимая пучина, если позволено мне будет так ее назвать, – глубокая грязь, ни пройти, ни переплыть ее было невозможно, так что почти половину суток в Райд не мог попасть ни друг, ни враг. Но поскольку власти этого городка больше жаждали общества первых, нежели боялись общества вторых, они начали строить небольшую дамбу до нижней отметки воды, чтобы пешеходы могли сойти на берег когда захочется; но так как работы эти были общественные и обошлись бы очень дорого, не меньше, чем в десять фунтов стерлингов, а члены муниципалитета, то есть церковные старосты, надсмотрщики, констебль и сборщик десятины, и самые видные обыватели, каждый пытался осуществить свой план за счет публики, они перессорились между собой и, выкинув на ветер половину нужной суммы, решили сберечь хотя бы вторую и удовлетвориться ролью проигравших, лишь бы не добиться успеха в деле, в котором другие могли достичь большего. Так пошло прахом единодушие,[67] столь необходимое во всех общественных делах, и каждый, из боязни стать легкой добычей для других, стал легкой добычей для самого себя.
Однако, где та трудность, с какой не справится сильный и хитроумный человек, и меня втиснули-таки в маленькую лодку, подгребли поближе к берегу, а там лодку взяли на руки два матроса и пронесли через глубокую грязь и усадили меня в кресло, а потом несли еще четверть мили и доставили в дом, казалось бы, самый гостеприимный во всем Райде.
Свою провизию мы привезли с корабля, так что требовался лишь огонь, чтобы приготовить ее к столу, и комната, где ее съесть. Тут мы не ждали разочарований, потому что обед наш состоял из бобов и бекона, а нашим представлениям об удобствах вполне соответствовала бы самая скверная комната во владениях его величества.
Однако ни то, ни другое разочарование нас не миновало: часа в четыре, когда мы прибыли в свою харчевню, предвкушая, как сейчас увидим свои бобы, дымящиеся на столе, мы с горькой обидой увидели их, правда, на столе, но без того добавления, которое сделало бы это зрелище приятным, другими словами – в точности в таком же виде, в каком послали их с корабля.
В оправдание этой задержки, хотя мы-то почти нарочно немного задержались, а провизия наша уже три часа как прибыла, хозяйка дома сообщила, что обед не готов не из-за недостатка времени, а из страха, как бы бобы не остыли или не переварились до нашего прихода; а это, уверяла она, было бы гораздо хуже, чем несколько минут подождать обеда – замечание до того справедливое, что возражений на него и не найти, но в эту минуту оно было неуместно: мы очень точно распорядились, чтобы обед был готов к четырем, и сами, не жалея забот и трудов, явились в условленное время до противности точно. Но торговцы, хозяева гостиниц и слуги не любят баловать нас, если это идет в ущерб нашим истинным интересам, которые им всегда известны лучше, чем нам самим, и никакие взятки не заставят их свернуть с дороги, пока они заботятся о нас, словно нам назло.