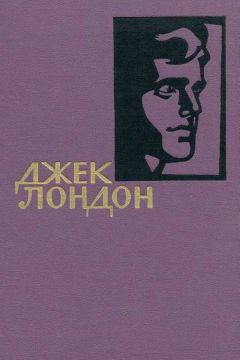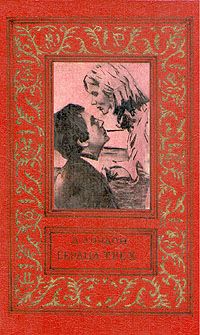Джек Лондон - Джек Лондон. Собрание сочинений в 14 томах. Том 14
— Моэпуу — человеческое жертвоприношение! — вставил Пул. — А между тем прошло уже девять лет со дня прибытия миссионеров.
— А за год до их прибытия идолов посбрасывали с подножий и нарушили все табу! — добавил Кумухана. — Но вожди все еще держались старого обычая, обычая хунакеле, и прятали кости алии в таком месте, чтобы ни один человек не мог их найти, не мог делать рыболовных крючков из их челюстей или наконечников для стрел из длинных костей. Смотри, о Канака Оолеа!
Старик высунул язык, и Пул, к своему изумлению, увидел, что поверхность этого чувствительного органа была от корня до кончика покрыта чрезвычайно сложной татуировкой.
— Это было сделано через несколько лет после прибытия миссионеров, когда скончался Кеопуолани. Мало того, я выбил у себя четыре передних зуба и выжег дужки на всем моем теле. И всякого, кто в эту ночь осмеливался высунуть нос за дверь, убивали вожди! Нельзя было зажечь огня в доме, не слышно было ни шума, ни шороха. Даже собак и свиней, поднимавших шум, убивали, а всем кораблям хаоле в порту запретили бить в колокола той ночью! Страшная вещь была в те дни смерть алии!
Но вернемся к ночи, в которую скончался Кахекили. Мы продолжали сидеть в кругу пьяниц после того, как Конукалани утащил Малиа за волосы. Некоторые из матросов хаоле начали было ворчать, но в те дни их было мало в стране, а канаков было много. И больше Малиа не видел никто из живых. Конукалани знал, как ее убили, но никому не рассказывал. А в последовавшие годы разве смели задавать ему такие вопросы простолюдины вроде меня и Анапуни?
Она все рассказала Анапуни перед тем, как ее оттащили. Но у Анапуни было черное сердце. Мне он не сказал ничего! Он стоил того убийства, которое я замышлял! В кругу сидел исполин гарпунщик, пение которого было подобно мычанию быка; я загляделся на него, покуда он ревел какую-то морскую песню, и когда бросил взгляд через круг на Анапуни, увидел: Анапуни исчез. Он бежал в высокие горы, где мог прятаться с птицеловами недели и месяцы. Это я узнал впоследствии.
А что же я? Я сидел, стыдясь того, что мое желание обладать женщиной оказалось слабее моего рабского повиновения вождю. И топил свой стыд в больших кружках рома и виски, пока все вокруг меня не пошло ходуном и в голове и снаружи, пока Южный Крест не заплясал хула на небе, пока горы Коолау не закланялись своими царственными вершинами Вайкики, а прибой Вайкики не поцеловал их в лоб. А гигант гарпунщик продолжал реветь — это был последний звук, который я услышал, ибо я откинулся навзничь на циновку лаухала и на время как бы умер.
Когда я проснулся, чуть-чуть серел рассвет. Чья-то голая нога пнула меня в ребро. После невероятного количества напитков, которое я проглотил, удар пяткой показался мне очень неприятным. Канаки и вахине с попойки ушли по домам. Я один оставался среди спящих матросов, и огромный гарпунщик храпел, как кашалот, положив голову на мои ноги.
Меня еще несколько раз пнули пяткой; я сел, меня затошнило. Но тот, который пнул меня, находился в великом нетерпении и спрашивал, куда девался Анапуни. Я не знал этого, и вот меня опять толкали — на этот раз с обеих сторон — два нетерпеливых человека за то, что я не знал. Не знал я и того, что Кахекили скончался. Но я догадался, что случилось нечто серьезное, ибо люди, толкавшие меня, были вожди, люди с большой властью. Один был Аимоку из Канеохе, другой — Хумухуму из Маноа.
Они приказали мне следовать за ними и обращались со мной очень грубо. Когда я поднялся, голова гарпунщика скатилась с моих ног через край циновки на песок. Он хрюкнул, как свинья, раскрыв рот, и весь его язык вывалился изо рта на песок. Он не втянул его обратно. Впервые я тут узнал, как длинен язык человека! Я видел песок на этом языке, и меня стошнило вторично. О, как ужасен день после ночи попойки! Я весь горел, внутри у меня все пересохло и пылало, как лава, как язык гарпунщика, сухой и вывалянный в песке.
Я нагнулся напиться из кокосового ореха, но Аимоку выбил его из моих дрожащих пальцев, а Хумухуму ударил меня по затылку тыльной частью руки.
Они шли передо мной плечом к плечу, с торжественными и мрачными лицами, а я плелся за ними следом. Во рту было дурно от выпитого, голова страшно болела, и я готов был отрезать свою правую руку за глоток, за один глоток воды. Если бы я получил его, то, я знаю, он закипел бы у меня в утробе, как вода, пролитая на раскаленные камни очага. О, как страшен день после попойки! Жизнь многих людей, умерших молодыми, прошла передо мной с той поры, как я в последний раз был в состоянии выпить такое великое количество хмельного. Молодость не знает меры!
Мы шли, и я начал понимать, что скончался какой-нибудь алии. Не видно было ни одного канака, спящего на песке или крадущегося домой после ночи любви; ни одного каноэ не видно было на ранней ловле, когда со сменой прилива рыба так хорошо идет на приманку. Когда мы проходили мимо хейяу (храма), к которому бывало причаливали бриги и шхуны великого Камехамехи, я увидел, что с большого двойного каноэ Кахекили сняты навесы из циновок и что, несмотря на отлив, много людей тащат его по песку в воду. Все эти люди были вожди. И хотя у меня плыло перед глазами, голова кружилась, и нутро горело жаждой, я догадался, что скончавшийся алии был Кахекили. Ибо он был стар, и всего скорее следовало ожидать именно его смерти.
— Я слышал, что его смерть в большей степени, чем вмешательство Кекуаноа, помешала восстанию правителя Боки! — заметил Хардмэн Пул.
— Именно смерть Кахекили помешала этому, — подтвердил Кумухана. — Все простолюдины, когда в ту ночь разнеслась весть о его смерти, укрылись в своих деревянных домах, не зажигали ни огня, ни трубок, не дышали громко, потому что в своем доме они были табу от избрания в жертвы. Бежали также все бойцы правителя Боки и дезертиры с кораблей хаоле, так что медные пушки остались без прислуги, а кучка вождей сама по себе ничего не могла сделать.
Аимоку и Хумухуму посадили меня на песок в сторонке от огромного двойного каноэ, которое спускали на воду. И когда оно поплыло, все вожди почувствовали жажду, ибо они не привыкли к такой работе; мне было приказано влезть на пальмы возле навесов для лодок и сбрасывать кокосовые орехи. Вожди напились и освежились, но мне они не позволили напиться.
Потом они перенесли Кахекили из его дома в каноэ в гробу хаоле, новеньком, просмоленном и лакированном. Его мастерил корабельный плотник, полагавший, что делает лодку, которая не должна протекать. Гроб был весь деревянный, и только над лицом Кахекили оставалось тонкое стекло. Вожди не привинтили наружной доски, чтобы закрыть это стекло. Может быть, они не знали устройств гробов хаоле; во всяком случае, как ты увидишь, мне оказалось на руку то, что они этого не знали.
«Тут только один моэпуу», — проговорил жрец Эоппо, глядя на меня, когда я сел на гроб на дне пироги. Вожди уже гребли, выплывая за рифы.
«Другой убежал и спрятался! — ответил Аимок. — Это единственный, которого нам удалось поймать».
И тогда я понял. Я понял все! Меня должны были принести в жертву! Второй жертвой был избран Анапуни! Вот о чем шепнула Малиа Анапуни на попойке. И ее утащили, прежде чем она успела предупредить меня. А он, с его злым сердцем, не сказал мне этого. «Их должно быть два! — отвечал Эоппо. — Таков закон!»
Аимоку перестал грести и поглядел на берег, словно хотел вернуться и найти другую жертву. Но некоторые вожди стали возражать, доказывали, что все простолюдины ушли в горы или лежат табу в своих домах и что могут пройти дни, прежде чем найдут второго. В конце концов Эоппо сдался, хотя время от времени продолжал ворчать, что закон требует двух моэпуу.
Они гребли. Проехали Алмазный Мыс, поравнялись с Мысом Коко, пока не выплыли на середину пролива Молокаи. Здесь разгулялась волна, хотя пассатный ветер дул очень слабо. Вожди перестали грести, и только рулевые держали челны носами к ветру и к волне. И прежде чем двинуться дальше, они снова вскрыли несколько кокосов и принялись пить.
«Не беда, что я выбран в моэпуу, — обратился я к Хумухуму, — но я хотел бы напиться перед тем, как меня убьют!»
Я не получил питья. Но я говорил правду! Я слишком много выпил виски и рому, чтобы бояться смерти. По крайней мере у меня исчез бы отвратительный привкус во рту, перестала бы болеть голова, перестали бы гореть, как раскаленный песок, внутренности! И, кажется, больше всего я страдал от мысли о языке гарпунщика, вывалившемся на песок и покрытом песком. О, Канака Оолеа, какие скоты молодые люди, когда пьют! Только состарившись, подобно мне и тебе, обуздывают они свою жажду и пьют умеренно, как ты и я.
— Так уж нам приходится! — возразил Хардмэн Пул. — Старые желудки изнеживаются, становятся тонки и слабы. И мы пьем умеренно, ибо не смеем пить больше. Мы мудры, но горька эта мудрость!
— Жрец Эоппо спел длинную меле о матери Кахекили и родительнице этой матери и обо всех матерях до самого начала времен, — продолжал Кумухана. — И мне казалось, что я умру от пожирающего меня жара, прежде чем он окончит. Он стал взывать ко всем богам нижней вселенной, и средней вселенной, и верхней вселенной, умоляя их холить и лелеять покойного алии и исполнить заклятия — и страшные же были заклятия! — которые он наложил на всех людей в будущем, вздумавших бы дотронуться до костей Кахекили и забавляться, убивая при их помощи гадов.