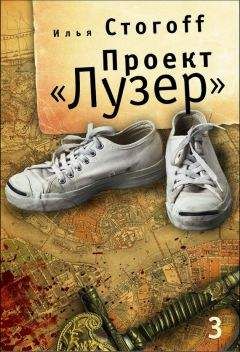Владислав Реймонт - Земля обетованная
— Но как же тех не поддержали, как допустили такой крах?
— Рогопуло сбежал, Лихачев умер, спился с горя.
— А Фрумкин и Алпасов?
— О них не знаю, говорю только то, что было в телеграмме.
Теперь эти вести уже обошли зал, о банкротствах узнали все.
Было видно, как это сообщение, словно взорвавшаяся бомба, будоражило публику то в одном, то в другом конце.
Вопросительно вскидывались головы, сверкали глаза, звучали резкие возгласы, с шумом двигались кресла, люди поспешно выбегали на телеграф, к телефонам.
Вскоре театр опустел.
Боровецкий тоже почувствовал, что взволнован этой вестью, — сам-то он ничего не терял, но теряли все вокруг.
— Вы ничего не теряете? — спросил он Макса Баума, который присел на свободное место рядом с ним.
— Нам нечего терять, кроме чести, а этим товаром в Лодзи не интересуются, — насмешливо ответил тот.
— Здорово Лодзь затрещала.
— Скоро настанет теплая пора.
— Да-да, будет работа пожарникам.
— Подогреют, и весна скорей придет.
— Неплохо бы, уголь такой дорогой.
— Вы-то посмеиваетесь, вам эта забава ничего не стоит.
— Да так уже бывало, не раз бывало. Половина сломает шею, а другая половина наживется.
— Кто в лучшем положении?
— Бухольц, Кесслер, Мюллер.
— Этим-то все нипочем, кто им может повредить!
— А ну их всех к чертям! Мне-то какая печаль или опять же какая прибыль от того, богаче они станут или беднее.
Отовсюду слышались подобные замечания, вопросы, насмешки, высказывались различные догадки, многие лица повеселели: радовало разорение других.
— Мейер, похоже, на целых сто тысяч погорел?
— Это ему пойдет на пользу, избавится от живота, продаст лошадей, будет ходить пешком и быстро похудеет — не придется в Мариенбад ездить.
— Теперь будут дешево продаваться фамильные брильянты.
— Волькмана это может добить, он и так уже еле тянет.
— Теперь, Роберт, ты можешь просить руки его дочери, за дверь тебя уже не выставят.
— Пусть еще подождет.
Такие разговоры шли в партере, в толпе.
Короли сидели спокойно.
Шая не сводил глаз с певицы и, когда она кончила, первый начал хлопать, потом стал шептаться с Ружей и, поглаживая бороду, глазами указывать на Кнолля — тот, облокотившись на барьер ложи, кивнул Боровецкому.
В антракте Кароль появился у него.
— Вы слышали? — спросил Кнолль.
— Да, слышал. — Боровецкий принялся перечислять фирмы.
— Ерунда.
— Ерунда? Два миллиона рублей придется только на Лодзь.
— Мы теряем не много, только что тут был Бауэр и сказал, что всего каких-нибудь тысяч десять с чем-то.
— В театре идет слух, что полмиллиона.
— Это Шая распускает такие слухи, потому что он столько теряет. Глупый еврей.
— Во всяком случае, Лодзь это хорошо чувствует, фирмы будут лопаться, как мыльные пузыри.
— Да пусть все они лопнут, нам-то что за беда? — холодно сказал Кнолль, рассматривая свои холеные руки и машинально любуясь игрой брильянтов в перстне на левой руке. — Я с вами говорю не как со служащим нашим, но как с другом, — продолжал он. — Что вы слышали? Кому пророчат гибель из-за этого краха?
— Наверняка почти никого не называют.
— Ну, это не важно, и так ясно, что прогорят многие, а сколько — увидим завтра. Веселое будет воскресенье!
— Такое несчастье!
— Для нашей фирмы отнюдь нет. Сами посудите. Кто горит? Хлопок. Кто останется? Мы, Шая и еще несколько фирм. Половина этих жалких мелочных еврейских конкурентов погорела или погорит завтра, они сами друг друга изничтожат. На какое-то время нам будет просторней. Станем выпускать несколько новых сортов, которые они делали, а значит, настолько же увеличим сбыт. Но это мелочь. Они ломают себе шею, пусть ломают; прогорают — пусть прогорают; мошенничают — пусть мошенничают; мы-то устоим. А в общем, это еще пустяки, есть дела куда важней, скоро увидите: половина ткацких фабрик остановится. И притом очень скоро.
Боровецкий смотрел на него и слушал с некоторым раздражением — он не любил Кнолля и его непомерную спесь, порожденную миллионным состоянием.
После своего тестя Кнолль был самым видным из нуворишей и в их кругу самым образованным, хорошо воспитанным, любезным в обхождении, но также самым неумолимым эксплуататором, использующим людей и связи, которые у него были везде и всюду.
— Приходите завтра к нам на обед, приглашаю от имени отца. А теперь попрошу вас взглянуть, который час, сам я не могу, чтобы не подумали, будто я куда-то тороплюсь.
— Скоро одиннадцать.
— Когда отходит курьерский на Варшаву?
— В половине первого.
— Еще есть время. Я должен вам сказать, почему для меня эти известия о банкротствах, о том, что Лодзь теряет два миллиона, не так важны. Дело в том, что пришли вести куда более важные, — тут он внезапно остановился. — Я ведь говорю с дворянином?
— Вероятно, но я не вижу связи…
— Сейчас поймете. Вы наш друг, мы никогда не забудем, как прекрасно вы наладили работу в нашем печатном цехе. Видите ли, час тому назад из Петербурга сообщили телеграммой об очень важном событии, о том, что… что я должен ехать туда немедленно, но в полной тайне.
Последние слова он проговорил поспешно, так и не сказав того, что собирался, — его остановил холодный, подозрительный взгляд Боровецкого, пронзавший его насквозь. Кнолль беспокойно зашевелился, поправил булавку в галстуке и посмотрел на ложу напротив.
— Хороша бабенка эта пани Цукер.
— Брильянты у нее хороши.
— Значит, вы завтра навестите старика?
— Непременно.
— У него к вам какое-то особое дело. Вы уже уходите, так у меня есть просьба — будьте любезны сказать моему кучеру, чтобы ждал меня на Пшеязде. Итак, до свиданья, вернусь через несколько дней. Но — тайна, пан Боровецкий.
— Безусловно.
Боровецкий вышел из ложи с чувством разочарования. Он догадывался, что Кнолль ему не все сказал.
«Какие еще вести? Зачем он едет? Почему не сказал?» — терялся он в догадках.
Не дожидаясь, пока опустят занавес, он вышел было из театра на улицу, но вдруг возвратился и пошел в ложу Цукера.
— А я думала, вы обо мне забыли, — сказала пани Цукер с упреком, уставясь на него своими огромными дивными глазами.
— Разве это возможно?
— Для вас все возможно.
— Вы на меня клевещете, это подтвердят и мои друзья, и недруги.
— Какое мне до них дело, я же видела, что вы ушли.
— Но вернулся, не мог не вернуться, — тихо сказал он.
— Просто что-то забыли.
— Нет, к вам.
— В самом деле? — протянула она, и в глазах у нее заиграли искры радости. — Вы со мною еще никогда так не говорили.
— Но давно об этом мечтал.
Она окинула любовным взглядом его лицо, и он как бы ощутил на своих губах теплое веяние поцелуя.
— Вы там, в креслах, говорили обо мне с паном Вельтом, я это чувствовала.
— Мы говорили о ваших брильянтах.
— А ведь правда, что ни у кого в Лодзи нет таких красивых камней?
— Кроме жены Кнолля и баронессы, — не без ехидства ответил он и усмехнулся.
— Но чем еще вы говорили?
— О вашей красоте.
— Вы смеетесь надо мной.
— Я не способен смеяться над тем, что люблю, — глухо возразил он, беря ее свесившуюся с барьера руку; она быстро ее вырвала, удивленно оглядываясь вокруг, как если бы эти слова были сказаны где-то в зале.
— Прощайте, пани Цукер, — сказал Боровецкий, злясь на себя за глупое поведение, за то, что сказал такие слова без всякой подготовки, но эта женщина дурманила его, как наркотик.
— Выйдем вместе, я сейчас, — быстро промолвила она, подхватила шаль, бонбоньерку, веер и вышла из ложи.
Одевалась она молча.
Боровецкий не знал, что сказать, только смотрел на нее, на ее глаза, непрестанно менявшие выражение, на изумительные линии плеч, на ее губы, которые она то и дело облизывала, на роскошную, идеально очерченную фигуру.
Когда она надела шляпу, он подал ротонду. Слегка откинувшись назад, чтобы удобней было ее набросить, пани Цукер в этом движении коснулась волосами его губ, — он чуть попятился, будто обжегшись, и она, потеряв опору, упала спиной на его грудь.
И тут Боровецкий быстро обнял ее плечи и впился губами в затылок, чувствуя, как ее шея судорожно напряглась под этим жадным поцелуем.
Пани Цукер тихонько охнула и на мгновение оперлась на него всем телом, так что он даже пошатнулся под ее тяжестью.
Но она быстро вырвалась из его объятья.
Лицо ее было мраморно-бледным, она тяжело дышала, из-под прикрытых век вырывалось пламя.
— Проводите меня до коляски, — сказала она, не глядя на него.
— Хоть на край света.
— Застегните мне, пожалуйста, перчатки.