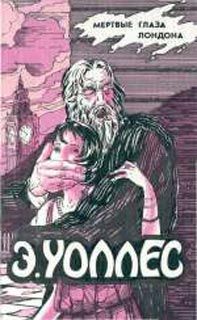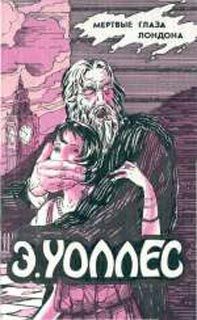Эдгар По - Колодезь и маятник

Обзор книги Эдгар По - Колодезь и маятник
Эдгар Аллан По
Колодезь и маятник[1]
Меня всего сломила – сокрушила эта долгая агония; и когда, наконец, они меня развязали и позволили сесть, то я почувствовал, что теряю сознание. Последняя фраза, коснувшаяся моего слуха, был приговор: – страшный смертный приговор, после которого голоса инквизиторов как будто слились в неясном жужжании. Этот звук напоминал мне почему-то идею кругового движения – может быть оттого, что в моем воображении я сравнивал его с звуком мельничного колеса; но это продолжалось недолго. Вдруг мне больше ничего не стало слышно; но зато я еще несколько времени продолжал видеть – и как преувеличенно было то, что я видел! Мне представлялись губы судей: они были совсем белые, белее листа, на котором я пишу эти строки, и тонки до невероятности. Еще тоньше казались они от жесткого, непреклонного выражения решимости и строгого презрения к человеческим страданиям. Я видел, как эти губы произносили приговор моей судьбы: они шевелились, слагая смертную фразу, в которой я различал буквы моего имени, и я содрогался, чувствуя что за их движением не следовало никакого звука.
Я видел также, в продолжение нескольких минут томительного ужаса, тихое и едва заметное колебание черных драпировок, облекавших стены залы; потом взгляд мой упал на семь больших подсвечников, поставленных на столе. Сначала они представились мне как образ Милосердия, подобно белым и стройным ангелам, которые должны были спасти меня, но вдруг смертельная тоска охватила мою душу и каждая фибра моего существа встрепенулась как бы от прикосновения вольтова столба, – формы ангелов превратились в привидения с огненными головами, и я почувствовал, что от них мне нечего надеяться помощи. Тогда, в уме моем проскользнула, как богатая музыкальная нота, мысль о сладком покое, который ждет нас в могиле. Мысль эта мерцала во мне слабо и будто украдкой, так что я долго не мог сознать ее вполне; но в ту минуту, как мой ум начал оценять и лелеять ее, фигуры судей внезапно исчезли, большие подсвечники потухли, наступила непроглядная тьма, и все мои ощущения слились в одно, как будто душа моя вдруг нырнула в какую-то бездонную глубь. Вселенная превратилась в ночь, безмолвие и неподвижность.
Я был в обмороке, но не могу сказать, чтоб лишился всякого сознания. То, что мне оставалось от этого сознания, я не стану даже пробовать определять или описывать, – но я знаю, что не все еще меня покинуло. В глубочайшем сне, – нет! В бреду, – нет! В обмороке, – нет! В смерти, – нет! Даже в самой могиле не все покидает человека: иначе для него не было бы бессмертия. Пробуждаясь от глубокого сна, мы непременно разрываем сеть какого-нибудь сновидения, хотя, секунду спустя, может быть, уже и не помним этого сновидения. При возвращении от обморока к жизни, бывают две степени: в первой мы ощущаем существование нравственное, во второй – существование физическое. Мне кажется вероятным, что если б, дойдя до второй степени, можно было вызвать все ощущения первой степени, то мы бы нашли в ней все красноречивые воспоминания бездны неосязаемого мира. А что такое эта бездна? Как отличим мы ее тени от теней смерти? И если впечатления того, что я назвал первой степенью, не возвращаются по призыву нашей воли, то разве не бывает, что после долгого промежутка, они являются неожиданно сами собою, и мы тогда изумляемся, откуда могли они взяться? Тот, кому никогда не случалось быть в обмороке, не знает, какие, в это время, представляются, посреди клубов пламени, дворцы и странно знакомые лица; тот не видал, какие носятся в воздухе меланхолические видения, недоступные простому взгляду; тот не вдыхал запаха неизвестных цветов, не следил за звуками таинственной мелодии, прежде никогда им не слышанной.
Посреди моих повторяемых и энергических усилий уловить какой-нибудь след сознания в том состоянии ничтожества, в котором находилась душа моя, выдавались по временам минуты, когда мне казалось, что я успеваю в этом. В эти короткие минуты мне представлялись такие воспоминания, которые, очевидно, могли относиться только к тому состоянию, когда сознание было во мне, по-видимому, уничтожено.
Эти тени воспоминания рисовали мне очень неясно какие-то большие фигуры, которые поднимали меня и безмолвно несли меня вниз… потом еще ниже, и все ниже и ниже, – до тех пор, пока мною овладело страшное головокружение при мысли о бесконечном нисхождении. Помнился мне также какой-то неопределенный ужас, леденящий сердце, хотя оно было, в то время, сверхъестественно спокойно. Потом все стало недвижно, как будто те, которые несли меня, перешли в своем нисхождении за границы безграничного и остановились, подавленные бесконечной скукой своего дела. После того, душа моя припоминает ощущение сырости и темноты, и потом все сливается в какое-то безумие, – безумие памяти, не находящей выхода из безобразного круга.
Внезапно звук и движение возвратились в мою душу – сердце беспокойно забилось, и в ушах моих отдавался гул его биения. Затем пауза – и все опять исчезло. Потом снова звук, движение и осязание как будто пронизали все мое существо, и за этим последовало простое сознание существования без всякой мысли. Такое положение длилось долго. Потом чрезвычайно внезапно, явилась мысль, нервический ужас и энергическое усилие понять, в каком я нахожусь состоянии. Потом пламенное желание снова впасть в бесчувственность и, наконец, быстрое пробуждение души и попытка к движению. Тогда явилось полное воспоминание о процессе, о черных драпировках, о приговоре, о моей слабости, о моем обмороке; – о том же, что было дальше, я забыл совершенно и только впоследствии с величайшими усилиями достиг того, что вспомнил об нем, но и то в неясных чертах.
До этой минуты, я не открывал глаз; я чувствовал только, что лежу на спине и не связанный. Я протянул руку, и она тяжело упала на что-то сырое и жесткое; я так и оставил ее на несколько минут, ломая себе голову, чтоб угадать, где я нахожусь и что со мной сталось. Мне очень хотелось осмотреться кругом, но я не решался: не потому, чтоб боялся увидать что-нибудь страшное, но меня ужасала мысль, что я ничего не увижу. Наконец, с сильным замиранием сердца, я быстро открыл глаза, и мое ужасное опасение подтвердилось: меня окружала тьма ночи.
Я с усилием вдохнул воздух, потому что мне казалось, что густота мрака давит и душит меня – до того тяжела была атмосфера. Продолжая спокойно лежать на спине, я начал напрягать все силы моего рассудка, чтоб припомнить обычаи инквизиции и понять мое настоящее положение. Надо мною был произнесен смертный приговор, и с тех пор, кажется, прошло довольно долго времени, но мне ни на минуту не пришла в голову мысль, что я уже умер. Подобная идея, вопреки всем литературным фикциям, совершенно несовместна с действительным существованием; – но где же я был, и в каком состоянии? Я знал, что приговоренные к смерти умирали обыкновенно на аутодафе, и даже в самый вечер моего суда была отпразднована одна из этих церемоний. Привели ли меня опять в мою темницу, чтоб ожидать там следующего аутодафе, которое должно совершиться чрез несколько месяцев?… Я тотчас понял, что этого быть не могло, потому что все жертвы были вытребованы разом; притом же в моей первой темнице, так как и в кельях всех толедских узников, пол был вымощен камнем, и свет не был из нее совершенно исключен.
Вдруг ужасная мысль пришла мне в голову и вся кровь моя бурным потоком прилила к сердцу; – на несколько минут я снова впал в беспамятство. Придя в себя, я разом вскочил на ноги, содрогаясь каждой фиброй моего существа, и начал ощупывать руками вокруг себя и над собою, во всех направлениях. Хотя ничего не попадалось мне под руку, но я боялся сделать шаг, чтоб не удариться о стены моей гробницы. Пот выступил из всех моих пор и холодными каплями застыл у меня на лбу; агония неизвестности сделалась наконец невыносима, и я осторожно двинулся с места, вытянув руки вперед и расширяя глаза, в надежде уловить откуда-нибудь луч света. Так сделал я несколько шагов, но все кругом было темно и пусто, и вздохнул свободнее. Мне показалось очевидным, что еще не самая страшная участь мне суждена.
Пока я продолжал осторожно подвигаться вперед, все бесчисленные, нелепые слухи об ужасах толедских темниц начали приходить мне на память. Странные вещи рассказывали об этих темницах, – я всегда считал их за басни, – но, тем не менее, они были так страшны и таинственны, что о них говорилось не иначе как шепотом. Должен ли я был умереть с голоду в этом подземном мире мрака, или меня ожидала еще ужаснейшая казнь?… Что в результате должна была быть смерть, и смерть горькая – в этом я не сомневался: я слишком хорошо знал характер моих судей. Весь вопрос, мучивший и занимавший меня, состоял только в том, какого рода и в какое время воспоследует эта смерть.
Наконец мои протянутые руки встретили твердое препятствие: это была стена, по-видимому, сложенная из камней, – очень гладкая, сырая и холодная. Я пошел вдоль ее, ступая с недоверчивостью по полу, при воспоминании о некоторых рассказах. Однако ж таким способом никак нельзя было определить размер моей темницы, потому что я мог обойти кругом ее и возвратиться на прежнее место, не замечая этого, так как стена была везде ровная. С этой мыслью, я начал искать ножика, который был у меня в кармане, когда меня повели к суду; но его уже не было, и моя прежняя одежда была заменена платьем из грубой саржи. Я было хотел засунуть острие ножа в какую-нибудь расщелину стены, чтоб обозначить место, от которого отправлюсь. Это было не трудно сделать и другим способом, но в беспорядке моих мыслей мне показалось, что это непреодолимая трудность.