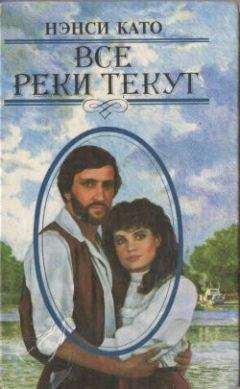Чингиз Айтматов - Бахиана

Обзор книги Чингиз Айтматов - Бахиана
Чингиз Айтматов
Бахиана
Рассеивая утренюю дымку, высветляя обнаженную даль сизой воды, солнце вставало из самого моря. Оно все выше приподнималось ослепительным сгустком над пустынной чертой горизонта. И небо открылось.
Судя по редким пестрым облачкам, неподвижно разбросанным по небосклону, погода обещала быть спокойной, ровной. И волны почти не давали знать о себе. Лишь изредка на тусклой морской поверхности взрывалась вдруг шальная грива затаившейся волны и тут же угасала неподалеку белым мгновенным росчерком.
И по мере того, как восходило солнце и становилось светлее, все отчетливее, все резче обозначались на серо-лиловом фоне моря и неба гористые контуры островков, странно сошедшихся тут в воде, как быки для боя, каждый в отдельности — в собственном, строго подчеркнутом кольце обдающего брызгами прибоя.
Таким предстало в то утро Мраморное море, на одном из островов которого она очутилась волею судеб…
Картину эту дополняли несколько молчаливых чаек, безучастно паривших поутру близ берега, да одинокая рыбацкая лодка, болтавшаяся на зыби вместе с согбенной фигуркой в соломенной шляпе…
И всюду была вода и вода и ничем не нарушаемая островная тишина, хотя ночью она слышала долгие сигналы встречных кораблей и даже голоса — то турецкие лоцманы что-то сообщали друг другу в мегафоны, усиливающие и искажающие до жути слова средь ночи…
Для нее солнце восходило здесь в первый раз…
Кутаясь в матерчатую шаль и пригреваясь в лучах, она неподвижно сидела, подоткнув полы платья под себя и собрав высокие колени у подбородка. Она была совсем одна в этой своей сжавшейся позе на широкой каменной паперти древней монастырской церкви, обращенной обветшалым, обросшим жестким плющом фасадом прямо к причалу, до которого было всего десяток шагов. Никогда еще она не видела такой церкви — у самого моря. Прибывавшие на молебны, должно быть, со сходней сразу шли в открытые двери к алтарю. И когда поутру зазвонили колокола, то ей довелось услышать редкое сочетание звуков — медный размеренный перезвон, долго плывущий над головой, и упругие удары прибоя у берега.
Остров был довольно тесный из-за гористости, крутости склонов, но тщательно обжитый и застроенный на века еще византийскими мастерами. Всё, что здесь было возведено из камня, — монастырская крепость, высокие узкие дома под черепичными крышами, восходящие уступами один от одного на гору, и всё, что произрастало на здешней кремнистой почве, — множество смоквы, густо выбивающейся лиственными купами из-под самых стен, бурая лоза и цветущие кусты олеандра среди камней, — стоило долгого труда и времени. Об этом свидетельствовали прислонившиеся почти вплотную к стенам крепости древние мощноветвистые кедры и безупречные в собственной собранности кипарисы — достигавшие высоты почти вровень с церковью. Единственная улочка от пристани переходила в извилистую жесткую тропу, окаймляющую, по всей вероятности, весь остров по окружности.
Пахло морем — йодного духа влагой, а от земли — нагревающимися камнями и листвой деревьев… И еще существовал мул на острове, возможно, один-единственный, чудной и старый. Как заколдованный, он неподвижно стоял неподалеку от пристани с порожними корзинами на спине, притороченными по обе стороны. При нем никого не было. Вот и стоял, бедняга, в ожидании то ли хозяина, то ли какого-то привоза с моря… А иначе зачем было ему тут торчать?
Это и был тот мир, куда она добралась-таки, добрела, дотащила свое бренное тело, положив на то самое жизнь, ибо платой за проделанный путь могла быть лишь цена жизни, поскольку ничем иным, кроме собственной данности, заключенной в себе, и некоторого жизненного опыта, обретенного за недолгий век, она не располагала.
Когда она пришла в Стамбул, у нее оставалась лишь одна вещица единственная в своем роде старинная нитка жемчуга, которую она несла с собой, чтобы уплатить за переправу через море. Теперь она была свободна и от этого груза. И всё, что оставалось позади, всё то, что изначально признавалось всеми как безусловный смысл человеческого бытия и вчера еще не вызывало никаких сомнений в разумности и необходимости такого устроения жизни, всё то, что и по ее понятиям являло собой цель существования на земле, — всё это походило теперь на странный, отталкивающий сон, только что минувший, думать, возвращаться к которому даже в мимолетных воспоминаниях не было никакого желания…
Всё прошлое было отвергнуто, исключено ею из собственной жизни настолько категорически, что сейчас она не смогла бы ответить себе, с какой стороны объявилась она здесь на острове, точно бы та действительность, что имела место до этого, вовсе перестала существовать по причине ее неприятия. Да и не всё ли равно это было — прежнее, прошедшее, ушедшее и прочие обозначения того, что начисто отринуто, так же, как не всё ли равно, в какой стороне оставался Стамбул — последнее место исхода, где она сумела упросить старого турка лодочника переправить ее сюда за нитку того самого жемчуга. Отныне всему тому житью был положен безоговорочный, абсолютный конец. Конец во всем, как если бы то была смерть…
И теперь она терпеливо сидела на каменных ступенях у врат в безлюдную церковь, отворяемую только по торжественным случаям, ибо, как поняла она, прислушиваясь к голосам в монастырском дворе, повседневные труды молитвенные совершались, видимо, в специальном помещении, находящемся, должно быть, вблизи монашеских жилищ. Так полагала она, ибо за стенами монастыря еще не была и не стремилась без приглашения проникнуть туда, а потому смиренно ждала решения своей участи.
Внешне она ничем не проявляла тревоги. Знала, и в том была с обреченностью убеждена и согласна, что здесь ее последнее местопребывание на свете. За пределами этого острова она уже ничего не желала для себя… И когда высоко в небе народился неуклонно нарастающий рокот едва различимых самолетов, летящих четкими треугольниками — по три в каждом звене, неизвестно куда и откуда, — она даже не шевельнулась и не подняла головы, как бывало прежде, не побеспокоилась, не полюбопытствовала, ибо то находилось вне острова и потому не имело уже отношения к ней. Так и просидела она, не поднимая лица, а самолеты прошли прямо над островами, истончая силуэты и унося с собой затихающий гул.
Солнце же всё выше приподнималось над морем, и воцарилось наконец полное утро. Начинался день. Но пока что никто не интересовался ею, если не считать молчаливого заспанного звонаря, проследовавшего полчаса назад через боковую дверь на колокольню, буркнувшего что-то, должно быть, «доброе утро», да случайно обнаруженной здесь по прибытии соотечественницы болгарки, монахини Иванны, которая, как могла, опекала ее, устроив на ночь у привратницы. Утром она привела ее сюда, к церкви, и велела ждать.
А тем временем за глухими стенами монастыря Пречистой Византийской Девы, так именовалась эта островная обитель невест Христовых, с раннего утра творилась своя, расписанная из века в век общинная жизнь послушниц. Как всегда, и это утро завершалось распоряжениями на день самой настоятельницы — игуменьи Митродоры. То был обычный совет в канцелярии игуменьи по текущим и прочим неотложным делам.
Все указания и наставления на тот день были уже отданы ею, исполнительницы — иеромонахини — расходились по службам, когда игуменья Митродора, подняв глаза от бумаг и одновременно откладывая очки в сторону, заметила одну из них — просмонарию Феодору, задержавшуюся в дверях с явно выжидательным выражением на лице.
— Ну, что еще, матушка? — скрывая недовольство, сказала настоятельница, ей очень хотелось остаться в тот час уединенно, дочитать начатую книгу. — Опять что-то не то?
Монахиня просительно помялась в дверях, шагнула поближе:
— Извините, преподобная, но я должна сказать — та странница ждет вашего благоволения.
— Какая странница? Я же сказала еще вчера: отправьте ее назад. Почему она здесь?
— Знаю, преподобная, и оказия, кстати, была. Катер почтовый уходил от причала. Но она не вняла нашим словам. Молча смотрит в глаза, как непонятливая или не присутствующая при себе. Из самой Болгарии добиралась, каково-то — одна в пути, в чужих землях, да молодая… Не от хорошей жизни…
— Ясно, не от хорошей, — вовремя перехватила разговор настоятельница. — Однако же не можем мы собрать всех страждущих на островке нашем. Всему есть предел. А потом, кому ведомо — с именем Господа пришла она душу спасти или переждать непогоду судьбы? Разве не сказано ей, что прибывают к нам, в женский монастырь, прежде списываясь, по согласию нашему да по просьбе приходов? А кто она, откуда она? Никто ведь не знает…
Старые монахини замолчали. Настоятельница Митродора, потирая нахмуренный лоб и перекладывая бумаги на обширном столе, выжидала, что еще скажет просмонария, она же псаломщица песнопений — человек, нужный всегда, просьбу которого не стоило сразу отвергать, но, с другой стороны, должна и Феодора понять, что каждый лишний рот — по нынешним временам непозволительная обуза. Война среди государств. И хотя живут они на своем острове отдельно от всех и не затронуты воюющими сторонами, однако же не на иной планете. Отсюда и жить труднее изо дня в день. Церкви в смятении на материках — божье слово упало в цене, водовороты войны кружат миром, зато цены на рынках дьявольски растут и привозы скудеют. Воистину прав был Екклезиаст — никто не остров… А если подумать, что творится на фронтах каково человеку, однажды пришедшему в жизнь…