Дюла Ийеш - Избранное
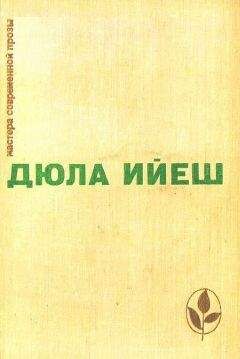
Обзор книги Дюла Ийеш - Избранное
Д. Ийеш. Избранное
Проза Дюлы Ийеша
Лишь однажды я видел Дюлу Ийеша. В старой Буде, в гостеприимном доме его друзей, мы сидели зимним сырым вечером за накрытым столом и говорили как и о чем придется. К тому времени я знал его по преимуществу как поэта — в Москве уже вышел его стихотворный сборник «Рукопожатие», но прозы не читал: «Люди пусты» и «Обед в замке» не были еще переведены по-русски, а «Ладья Харона» только писалась. Признаюсь, желание повидаться и поговорить с Ийешем подогревалось тем обстоятельством, что мои венгерские знакомцы высказывались о нем на редкость единодушно и с каким-то веселым благоговением как о живом классике, своей национальной гордости, и в то же время отличной души человеке. Когда о нем заходила речь («увидите, что за человек Дюла»), лица освещались улыбками, в которых были смешаны удовольствие и лукавство.
Понятно, с каким почтительным любопытством я смотрел на его широкую в плечах, чуть сутулую фигуру в просторном шерстяном свитере, всматривался в мягкое и простое, с густыми бровями и красноватым носом лицо крестьянина. Впечатление простонародности в его облике разрушали, впрочем, пытливые, изучающие глаза и ироническая складка тонких губ, вызывавшая в памяти эпикурейцев и скептиков вольтеровского века. Человек сангвинического склада, он весело держал в руках нить застольного разговора, атакуя меня вопросами и временами взрываясь темпераментной репликой.
Наивен способ сделать писателя ближе, рассказав о встрече с ним, поделившись впечатлениями о его странностях, привычках, острых словечках, о том, курит ли он трубку или пьет палинку. Какое дело до всего этого читателю его книг? Но я беру на вооружение избитый прием, предваряющий личным впечатлениям более ответственный литературный разговор о книге, оттого, что, читая и перечитывая прозу Ийеша, не мог отделаться от ощущения, что вижу и слышу его самого — его голос, движение глаз, способ разговора, улыбку.
Кажется, Лев Толстой замечал, что писатели, которых он знал, всегда делились для него на тех, что оказывались при непосредственном знакомстве «выше своей книги» пли ниже ее, Ийеш своей книге адекватен.
Говорить с Ийешем не просто. Он не желает вам понравиться, не стремится к сглаживанию углов, душевному комфорту в беседе. С ним не почувствуешь себя в обволакивающей, благодушной атмосфере. Ийеш задирается. Ийеш прощупывает собеседника. Ийеш вызывает на спор. И для того, случается, нарочно сгущает краски, приписывает себе крайние мнения и отстаивает их с редким задором — поди опровергни. Он уничтожает апатию салонной и светской беседы и чувствует себя удовлетворенным, когда накалит собеседника, ускользавшего в привычных формах стертого общения, до градуса искренности, ответной дерзости и серьезности. И тут сам готов отступиться от только что высказанного крайнего мнения и дружелюбно, открыто расхохотаться. Им достигнут тот слой в человеке, к которому он всегда и хочет пробиться.
Заговорили о его стихах. «Черное и белое» должен был называться его новый сборник. Я поинтересовался, нельзя ли перевести что-либо из этой книги для журнала, в котором я тогда работал. «Конечно, — мгновенно отвечал Ийеш, — возьмите белое и оставьте мне черное». И тут же перешел к другому. Он недавно вернулся из поездки в Париж, где был гостем Андре Мальро. Тогда только что прокатилась волна молодежных беспорядков в Латинском квартале. Ийеш сознавал, конечно, слабые стороны молодежного бунта, но рассказывал об этом так, что можно было понять: студенты чем-то по-человечески симпатичны ему. «А как же акты анархии и вандализма, перевернутые и подожженные автомашины, опустевшие аудитории?» — спрашивали Ийеша его собеседники. «А вам больше по душе сонная академическая заводь?» — парировал он. И, оттолкнувшись от какого-то французского словечка, легко перескочил на своего конька — доморощенную, небанальную лингвистику. С каким жаром стал он доказывать преимущество венгерского языка для поэзии перед всеми другими, восхищаясь разнообразием звуковых оттенков в нем! Я обмолвился, что лингвист Щерба различал то ли 15, то ли 18 разновидностей звука «а». «Только-то?» — немедленно отозвался Ийеш. И начал с энтузиазмом демонстрировать бесконечное богатство венгерского языка во всех производных от глагола «идти»: «пошел», «зашел», «ушел», «пришел», «подошел» и т. п., а присутствующие, втянутые им в спор, опровергали его, находя всякий раз русские эквиваленты. «Нет, нет, не пытайтесь меня переубедить, — заявлял Ийеш. — Все языки — немецкий, французский, английский — хороши, чтобы объясняться в гостях, на улице, в ресторане, со швейцаром, но венгерский язык создан для поэзии». И, накалив спор докрасна, он, улыбнувшись, неожиданно согласился, хитро поглядывая на русских гостей, что, по-видимому, с венгерским языком в этом отношении может соперничать только русский…
Таким заядлым спорщиком, мастером взрывать разговор, запомнился мне Ийеш по нашей встрече. Но если бы я никогда не видел его, то, наверное, вынес бы такое же впечатление из чтения его книг.
Да, говорить с Ийешем не просто, но и читать его — это счастливый труд. Он пишет в расчете на неравнодушное чтение, богатое обертонами смысла. На чтение, способное пробудить в читателе не одно вялое согласие, но вспышку чувства, горячее одобрение или запальчивый спор.
Не сегодня родилось, но стало в критике расхожей монетой броское определение: «проза поэта». Говоря так, разумеют образную насыщенность, смелость ассоциаций, лирическую фрагментарность прозы, родившейся под поэтической звездой.
Да, Дюла Ийеш (1902) — один из крупнейших венгерских поэтов последнего полувека. Но к его прозе это определение подходит, на мой взгляд, не больше, чем если бы в отношении его стихотворений и поэм мы выразились так: «поэзия прозаика». Просто эти два рода литературной работы душевно необходимы ему всяк по-своему. Большой национальный писатель, Ийеш испробовал едва ли не все жанры: писал лирические стихи, поэмы, пьесы, сценарии, романы, очерки, критические и публицистические статьи.
Ни один биограф и критик Ийеша не забудет отметить, как удивительно сплелись в его судьбе разные традиции и стихии жизни.
Сын кузнеца из Рацэгреша, родившийся под низким потолком батрацкого дома в задунайской пусте, он окажется воспитанником Сорбонны, впитавшим вместе с французской речью и изящную остроту галльской культуры. Доброволец венгерской Красной армии, сражавшийся за республику в 1919 году, он в 30–40-е годы сумеет прожить честно и небесплодно в Венгрии под властью Хорти, входя в ядро группы «народных писателей», и станет всенародно любимым поэтом новой Венгрии в наше время. Горячий, увлекающийся, но одаренный острой наблюдательностью и скептической трезвостью ума, он пройдет в начале своего пути, в парижской эмиграции, через искусы модных течений сюрреализма и экспрессионизма, как будто лишь для того, чтобы шире глядеть на возможности искусства и с большей внутренней убежденностью исповедовать демократизм и реализм.
В своей автобиографической книге он расскажет историю венгерского мальчика и его семьи, мальчика, с рождения дышавшего спертым, чадным воздухом домишек пусты, но вырвавшегося за выгон по крутой, узкой просеке к шоссе, которое вело от родного дома к познанию иных краев своей земли и Европы. Он вспомнит то время, когда отрекался от пусты, стыдился ее, хотел забыть босое детство. А потом вернулся с сознанием горечи и любви к своему прошлому. Из-за границы «он привез домой и душу». Вернулся зрячим на всякое добро и зло.
У лирического поэта, каков Ийеш, с детством, с родными местами связано столько дорогих сердцу впечатлений, что первым искушением, возможно, было просто рассказать о родном доме, о Рацэгреше — этой «милой, теплой ладошке, окруженной холмами». Наверное, из-под его пера могла выйти и более камерная, субъективная книга, лирическая история детства со сладким воспоминанием об играх и проказах, о бабушке, отце и матери… Нет, не могла такой стать написанная тридцатидвухлетним Ийешем книга «Люди пусты». Не могла потому, что, едва он коснулся слишком знакомого ему сюжета, его оледенила мысль: «Описал ли хоть кто-нибудь их историю — историю половины всех тружеников нашей земли? Я, во всяком случае, не знаю такого человека. В течение ряда лет я просмотрел множество замечательных книг и лишь очень изредка в полумраке придаточных предложений нападал на едва заметные следы».
В каждое время есть бытовые и социальные слои, которым «повезло» в литературе, иногда и с избытком — их жизнь становится предметом изображения поэта или романиста и по традиции наследуется интерес к ним: писать о мире, уже освоенном кем-то из крупных художников, проще и сподручнее вослед идущему. Жизнь господского имения, «замка», и даже крестьянской избы хотя бы после Кальмана Миксата и Жигмонда Морица не была в венгерской литературе забвенной темой. Но предмет внимания, то есть горечи, любви и сочувствия Ийеша, не дворянство и даже не поземельное крестьянство, а тот слой батрачества и дворни, который жил особой, замкнутой в себе жизнью и чьи дома вместе с воловнями, амбарами и конюшнями размещались неподалеку от графского или княжеского «замка».



