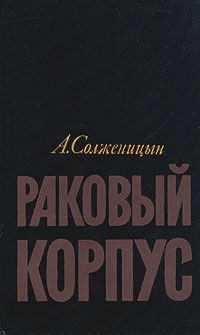Александр Солженицын - Захар-Калита
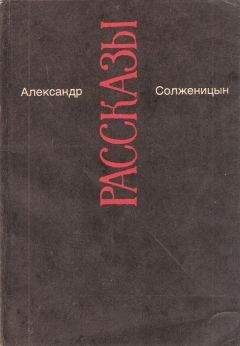
Обзор книги Александр Солженицын - Захар-Калита
ЗАХАР-КАЛИТА
Друзья мои, вы просите рассказать что-нибудь из летнего велосипедного? Ну вот, если нескучно, послушайте о Поле Куликовом.
Давно мы на него целились, но как-то всё дороги не ложились. Да ведь туда раскрашенные щиты не зазывают, указателей нет, и на карте найдёшь не на каждой, хотя битва эта по Четырнадцатому веку досталась русскому телу и русскому духу дороже, чем Бородино по Девятнадцатому. Таких битв не на одних нас, а на всю Европу в полтысячи лет выпадала одна. Эта битва была не княжеств, не государственных армий — битва материков.
Может, мы и подбираться вздумали нескладно: от Епифани через Казановку и Монастырщину. Только потому, что дождей перед тем не было, мы проехали в сёдлах, за рули не тащили, а через Дон, ещё не набравший глубины, и через Непрядву переводили свои велики по пешеходным двудосочным мосткам.
Задолго, с высоты, мы увидели на другой обширной высоте как будто иглу в небо. Спустились — потеряли её. Опять стали вытягивать вверх — и опять показалась серая игла, теперь уже явнее, а рядом с ней привиделась нам как будто церковь, но странная, постройки невиданной, какая только в сказке может примерещиться: купола её были как бы сквозные, прозрачные, и в струях жаркого августовского дня колебались и морочили — то ли есть они, то ли нет.
Хорошо догадались мы в лощинке у колодца напиться и фляжки наполнить — это очень нам потом пригодилось. А мужичок, который ведро нам давал, на вопрос — «где Поле Куликово?» посмотрел на нас как на глупеньких:
— Да не Куликово, а Куликово. Подле поля-то деревня Куликовка, а Куликовка вона, на Дону, в другу сторону.
После этого мужичка мы пошли глухими просёлками и до самого памятника несколько километров не встретили уже ни души. Просто это выпало нам так в тот день — ни души, в стороне где-то и помахивала тракторная жатка и здесь тоже люди были не раз и придут не раз, потому что засеяно было всё, сколько глаз охватывал, и доспевало уже — где греча, где свекла, клевер, овёс и рожь, и горох (того гороху молодого и мы полущили), — а всё же не было никого в тот день, и мы прошли как по священному безмолвному заповеднику. Нам без помех думалось о тех русоволосых ратниках, о девяти из каждого пришедшего десятка, которые вот тут, на сажень под теперешним наносом, легли и докости растворились в земле, чтоб только Русь встряхнулась от басурманов.
Весь этот некрутой и широкий взъём на Мамаеву высоту не мог резко изменить очертаний и за шесть веков, разве обезлесел. Вот именно тут где-то, на обозримом отсюда окружьи, с вечера 7-го сентября и ночью, переходя Дон, располагались кормить коней (да только пеших было больше), дотачивать мечи, крепиться духом, молиться и гадать — едва ли не четверть миллиона русских, больше двухсот тысяч. Тогда народ наш в седьмую ли долю был так люден как сейчас, и эту силищу вообразить невозможно — двести тысяч!
И из каждых десяти воинов — девять ждали последнего своего утра.
А и через Дон перешли наши тогда не с добра — кто ж по охоте станет на битву так, чтоб обрезать себя сзади рекою? Горька правда истории, но легче высказать её, чем таить: не только черкесов и генуэзцев привёл Мамай, не только литовцы с ним были в союзе, но и князь рязанский Олег. (И Олега тоже понять бы надо: он землю свою проходную не умел иначе сберечь от татар. Жгли его землю перед тем за семь лет, за три года и за два.) Для того и перешли русские через Дон, чтобы Доном ощитить свою спину от своих же, от рязанцев: не ударили бы, православные.
Игла маячила впереди, да уже не игла, а статная, ни на что не похожая башня, но не сразу мы могли к ней выбиться: просёлки кончались, упирались в посевы, мы обводили велосипеды по межам — и, наконец, из земли, ниоткуда не начинаясь, стала проявляться затравяневшая заглохшая заброшенная, а ближе к памятнику уже и совсем явная, уже и с канавами, старая дорога.
Посевы оборвались, на высоте начался подлинный заповедник, кусок глухого пустопорожнего поля, только что не в ковыле, а в жёстких травах — и лучше нельзя почтить этого древнего места: вдыхай дикий воздух, оглядывайся и видь! — как по восходу солнца сшибаются Телебей с Пересветом, как стяги стоят друг против друга, как монгольская конница спускает стрелы, трясёт копьями и с перекажёнными лицами бросается топтать русскую пехоту, рвать русское ядро — и гонит нас назад, откуда мы пришли, туда, где молочная туча тумана встала от Непрядвы и Дона.
И мы ложимся, как скошенный хлеб. И гибнем под копытами.
Тут-то, в самой заверти злой сечи — если кто-то сумел угадать место — поставлен и памятник, и та церковь с неземными куполами, которые удивили нас издали. Разгадка же вышла проста: со всех пяти куполов соседние жители на свои надобности ободрали жесть, и купола просквозились, вся их нежная форма осталась ненарушенной, но выявлена только проволокой, и издали кажется маревом.
А памятник удивляет и вблизи. Пока к нему не подойдёшь пощупать — не поймёшь, как его сделали. В прошлом веке, уже тому больше ста лет, а придумка — собрать башню из литья, вполне сегодняшняя, только сегодня не из чугуна бы лили. Две площадки, одна на другую, потом двенадцатирик, потом он постепенно скругляется, сперва обложенный, опоясанный чугунными же щитами, мечами, шлемами, чугунными славянскими надписями, потом уходит вверх, как труба в четыре раздвига (а самые раздвиги отлиты как бы из органных тесно сплоченных труб), потом шапка с насечкой и надо всем — золочёный крест, попирающий полумесяц. И всё это — метров на тридцать, всё это составлено из фигурных плит, да так ещё стянуто изнутри болтами, что ни болтика, ни щёлки нигде не проглядывало, будто памятник цельно отлит, — пока время, а больше внуки и правнуки не прохудили там и сям.
Долго идя по пустому полю, мы и сюда пришли как на пустое место, не чая кого-нибудь тут встретить. Шли и размышляли: почему так? Не отсюда ли повелась судьба России? Не здесь ли совершён поворот её истории? Всегда ли только через Смоленск и Киев роились на нас враги?.. А вот никому не нужно, никому невдомёк.
И как же мы были рады ошибиться! Сперва невдали от памятника мы увидели седенького старичка с двумя парнишками. Они лежали на траве, бросив рюкзак, и что-то писали в большой книге, размером с классный журнал. Мы подошли, узнали, что это — учитель литературы, ребят он подхватил где-то недалеко, книга же была совсем не из школы, а ни мало, ни много как Книга Отзывов. Но ведь здесь музея нет, у кого ж хранится она в диком поле?
И тут-то легла на нас от солнца дородная тень. Мы обернулись. Это был Смотритель Куликова Поля! — тот муж, которому и довелось хранить нашу славу.
Ах, мы не успели выдвинуть объектив! Да и против солнца нельзя. Да и Смотритель не дался бы под аппарат (он цену себе знал и во весь день потом ни разу не дался). Но описывать его — самого ли сразу? Или сперва его мешок? (В руках у него был простой крестьянский мешок, до половины наложенный, и не очень, видно, тяжелый, потому что он, не утомляясь, его держал.)
Смотритель был ражий мужик, отчасти и на разбойника. Руки и ноги у него здоровы удались, а ещё рубаха была привольно расстёгнута, кепка посажена косовато, из-под неё выбивалась рыжизна, брился он не на этой неделе, на той, но через всю щеку продралась красноватая свежая царапина.
— А! — неодобрительно поздоровался он, так над нами и нависая. — Приехали? На чём?
Он как бы недоумевал, будто забор шёл кругом, а мы дырку нашли и проскочили. Мы кивнули ему на велосипеды, составленные в кустах. Хоть он держал мешок, как перед посадкой на поезд, а на вид был такой, что и паспорта сейчас потребует. Лицо у него было худое, клином вниз, а решимости не занимать.
— Предупреждаю! Посадку не мять! Велосипедами.
И тем сразу было нам установлено, что здесь, на Поле Куликовом, не губы распустя ходят.
На Смотрителе был расстёгнутый пиджак — долгополый и охватистый как бушлат, кой-где и подштопанный, а цвета того самого- из присказки — серо-буро-малинового. В пиджачном отвороте сияла звезда — мы подумали сперва, орденская, нет — звезда октябрёнка с Лениным в кружке. Под пиджаком же носил он навыпуск длинную синюю в белую полоску ситцевую рубаху, какую только в деревне могли ему сшить; зато перепоясана была рубаха армейским ремнём с пятиконечной звездою. Брюки офицерские диагоналевые третьего срока заправлены были в кирзовые сапоги, уже протёртые на сгибах голенищ.
— Ну? — спросил он учителя, много мягче, — пишете?
— Сейчас, Захар Дмитрич, — повеличал его тот, — кончаем.
— А вы? — строго опять. — Тоже будете писать?
— Мы — попозже. — И чтоб как-нибудь от его напора отбиться, перехватили: — А когда этот памятник поставлен — вы-то знаете?
— А как же!! — обиженно откинулся он и даже захрипел, закашлялся от обиды, — А зачем же я здесь?!
И опустив осторожно мешок (в нём звякнули как бы не бутылки), Смотритель вытащил нам из кармана грамотку, развернул её — тетрадный лист, где печатными буквами, не помещаясь по строкам, было написано посвящение Дмитрию Донскому, и год поставлен — 1848.