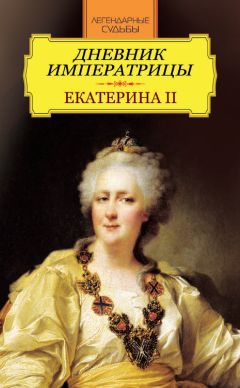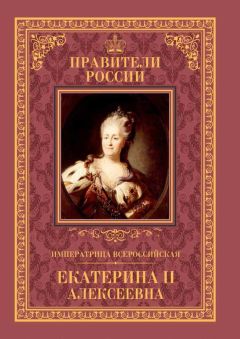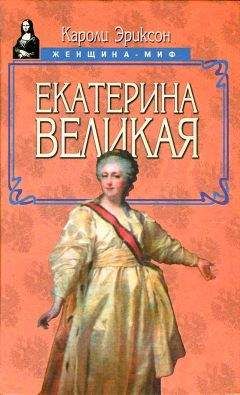Борис Поляков - Кола
Шешелов даже себе не мог бы признаться, что это были и его мысли. Пусть невольно, пусть вынужденно, но заодно с государем они приняли участие в разбазаривании земли державы. Но кто знает, как могло все обернуться, не сделай они такого шага! А теперь говорить – только раны бередить. И отозвался благочинному грубо, с вызовом:
– А как вы хотели, отец Иоанн? Чтобы елось и не смерделось?
– Да полноте вам, – грустно сказал Герасимов. – Что теперь! Ломоть отрезанный, не приставишь.
К этому разговору они больше не возвращались. Словно себя щадили.
...Не было красной семерки. Мешала шестерка треф. Пасьянс сегодня не получался.
Пожалуй, писарь без околичностей бы сказал. Но он всю зиму болеет.
– Дарья, – позвал. – Что же ты никогда про Матвея не скажешь? Как он?
Дарья сидит у окна на лавке, вяжет носки из собачьей шерсти. Шешелов и сейчас в таких. Хорошо в них. Как она без очков видит? Или это привычка рук? Молчит. Отмолчалась и тут, как рассказал про Пушкарева. А Шешелов втайне надеялся: не смолчит. Она тогда сердобольно вздохнула, поджала губы, сказала:
– Бабьи умы разоряют и домы. Из-за них по Коле и не эдакое бывало.
Теперь она не сразу отозвалась:
– Поднимается изредка. Но хворый еще, очень хворый.
Вспомнился Дарьин рассказ про бой на море и другой – как пороли плетьми Матвея.
– А ты, Дарья, вроде как говорила, что Матвей отомстил тогда за свое наказание.
– А как же, – она уже охотнее отозвалась. – Было такое.
Пасьянс не сходился. Пожалуй, сегодня и не сойдется. Не тем мысли заняты. Шешелов стал сгребать карты.
– Может, ты мне расскажешь про это?
– Право, не знаю. И вспоминать грешно.
– Какой же в рассказе грех? Расскажи, а я с охотой послушаю.
Дарья клубок с полу подняла, поправила платок.
– Ну дак ладно, коли охота есть. Вот, значит, как оно было, слушай.
...Матвей, как узнал, что пришла пора везти новый колокол из Архангельска, пришел на сход стариков, поставил им ведро водки, просил покаянно:
– Уважьте, старики, пошлите меня за колоколом. Выгода в этом и мне, и вам: колокол я для собора доставлю справно, дешево... И имя свое божьим делом поправлю. А то людям стыд показаться, такое мне срам-поношенье устроили.
Старики покаянья Матвеевого не ждали, глаза отводили в сторону, на водку поглядывали, кряхтели.
– Вы уж не откажите, – просил Матвей со смиреньем, – пошлите меня. Видит бог, как следует доставлю колокол на собор, – и крестился на образа истово, знал: обману не сделает.
Сиволобый первым голос подал:
– С поклоном пришел, так уважить надо. Как, граждане старики?
Старики были за примирение.
– Оно-то, конешно, Матвей не чужой нам.
– Говорить с людьми знает как, душою не гордый.
– И в морях свык имеет.
Сиволобый выждал, пока старики сказали, и сам молвил:
– За срам-поношенье вину клади на свой разум.
Матвей клонил голову, а глаза прятал: не углядели бы беса в них. Про Сиволобого подумал: «Ты ужо погоди. Я тебя ославлю, пострашней суда будет. И исправник не спасет».
Старики водку приняли. Распивая ее, хвалили скромность Матвееву, в душе радовались неожиданному повороту: каждый втайне вину перед ним чувствовал.
...В Архангельске, в портовом кабаке, Матвей подряжал артель. Приглянувшийся десятник брался доставить колокол и поднять его на собор, но сговор уперся в плату:
– Тово, парень, мала больно плата, мала, – вежливо подвигал рюмку к штофу.
Матвей наливал.
– С охотой употребляешь?
– Желанием бог не обидел.
Матвей притянул его за рукав, наклонился близко, шептал.
Десятник ковырял в зубах пальцем.
– Ну так, верно. И это можем...
А потом отпрянул, уставился на Матвея:
– Да ты что?! – Глаза округлились на миг, зарябили смехом, лицо дернулось, и десятник захохотал: – И они выйдут? Сами? Да ну-у! Ха-ха-ха-ха! Ох-ха-ха-ха-ха! – И вытирал кулаком слезы. – Да ты, парень, никак сам черт будешь? Ха-ха-ха!
– Был бы черт – не скупился. А то подешевле надо.
– Ха-ха-ха! – не мог уняться десятник. – Так они, говоришь, сами выйдут? А кругом народ?
– Ага, – щурил глаза Матвей.
Знал он своих стариков. Поморы, смолоду не боявшиеся ни бога, ни черта, к старости становились набожными, о душе так пеклись – ум крестом заслоняло.
Весть, что в праздник Ивана Купалы большой колокол на собор поднимать станут, облетела Мурман. Поморы покидали промыслы, спешили в Колу. Роздых в работе причинный: дело божье, перечить никто не может. А летом дома побывать хочется, семью проведать, хмельного выпить, да и глянуть желание есть, как колокол на собор придется.
У церковной ограды народ с утра раннего. Бабы и ребятишки – первые. За ними поморы степенно толпятся, в настроении праздничном, трезвые. Ждут, когда артель за подъем примется. Новый колокол – всем волнение. Звон, что теперь пойдет над заливом, гордость в сердца вселять будет: наш звонит!
День благодатный выдался. Солнце светит, тепло. На небе ни тучки. А тихо – травинка не шелохнется. Бывают летом в Коле такие дни. И коляне все радовались: услышал господь молитву, на погодку не поскупился.
Церковный двор прибран чисто. В нем старики собираются. Их положение особое, почетное. Не с толпою они за оградой, а отдельно, внутри ее, на виду у всех, на шаг к господу-богу ближе. Рубахи праздничные на стариках, цветные, в сапоги хоть глядись, ремень фасонно приспущен на животе, козырьки картузов блестят. И стоят старики чинно: кто денег меньше давал на колокол – позади, кто больше – выступили вперед, уперли руки в ремень, ждут.
Много лет потом, век целый, с хохотом рассказывали на Мурмане: постарался артельный десятник...
Канатами колокол оплели, блоки, лебедки и вороты укрепили, и десятник команду сверху уже подал. Канаты струнами натянулись, понапряглись, и, будто живой, колокол шевельнулся и поплыл вверх.
Плавно шел колокол, медленно, и вдруг на глазах у всей Колы споткнулся на середине пути и стал. Как уперся во что-то. Тихой тревогой гудела медь. Колокол покачивался беспомощно, и тревога эта брала за душу стоявших внизу колян.
Предчувствие беды охватило всех: вдруг да знамение не к добру. «Коли стал колокол посередь пути, может, господь противится подношению. Быть худу!» – каждый в душе подумал.
Матвей за дверями церковными прижался к щели. Он видел, как взволновался народ, забеспокоились старики, заоглядывались недоуменно. У Матвея внутри нетерпение, словно пружина сжатая: «Не так что-то делаю, ох, не так!» И додумать уже не успел: торопливо сверху сбегал десятник, скороговоркой шепнул на ходу:
– Сказать ладом бы! – И вышел быстро на паперть, поднял руку, призывая к себе внимание. – Люди добрые! Не идет дальше колокол! Не божье дело допущено... – голос срывающийся. – Покайтесь сами, очиститесь! – За оградой в испуге многие закрестились. А десятник рукой указал к старикам, напряг голос: – Кто из вас, старики, со снохами грешен – пусть из ограды выйдет!
От слов его народ за оградою всколыхнулся, бабы концы платков закусили, поморы смолкли. Все подались вперед, замерли: что-то будет сейчас?
Над кучкой праздничной стариков словно гром в ясный день грянул. Они застыли недвижно, не в силах сообразить, что делать. Тишина наступила – слышно стало, как Кола-река журчит.
Меж собою коляне давно судачили: старички, мол, не прочь со снохами, пока сыновья на Мурмане. Но слухи слухами оставались. В содеянном не только на исповеди – никто на дыбе бы не признался. А тут обернулось! И каждый, наверное, Суравлева-помора вспомнил. Был такой в Коле. Украл однажды он ярус и на миру богом поклялся: не брал. А на следующий год отнялись у бедняги ноги. Потом-то и каялся принародно, и прощения в соборе вымаливал, да поздно – не воротились ноги к нему. Вот уж истина: долго бог ждет, да больно бьет.
Тишину ветерок нарушил. Звук от меди тихий и заунывный. Толпа за оградой зашевелилась.
– Божье дело ждет, граждане старики!
Но на десятника уже не глядели. Повернулись все к старикам, а те посередь ограды, будто на лобном месте. Переступают с ноги на ногу, как под кнутом лошадь. Всю праздничность потеряли.
– Выходите! – окрик из-за ограды безжалостный.
Как подхлестнутая, толпа погустела к забору комом, вязкая. Выкрики громкие, злые пошли, а иные и с хохотом, словно про грех стариков стало уже всем ведомо.
– Выходи, кто грешен!
– Гнать их!
– Вонючие козлы!
– Эй, выходи! А то всех повыбросим!
Дрогнули старики. Кучка их раскололась. Вперед вышел Лоушкин, пугачевец: плечи опущены, идет медленно, тяжело. Народ за оградой смолк, глазам не верил. А Лоушкин не к воротам пошел, к собору. Стал на новое место, один, на собор перекрестился, поклон поясной отвесил и, не глядя ни на кого, расправил плечи, будто в чистоте души клятвенно присягнул.