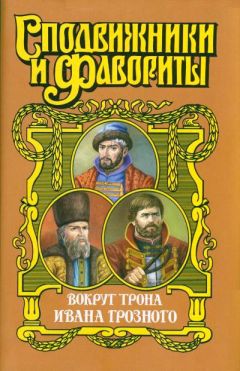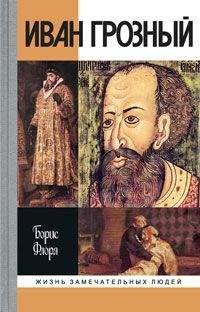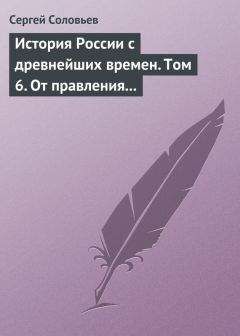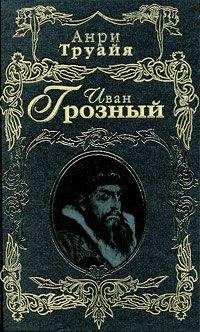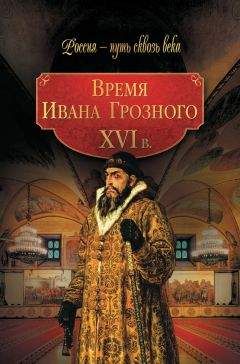Валерий Полуйко - Лета 7071
Вот каков он был, князь Дмитрий Иванович Вишневецкий, которого Иван посадил четвертым от себя! Сидеть на пиру четвертым по правую руку царя — велика честь, но не чести, не места искал Вишневецкий… Переходя на службу к московскому государю, оставил он два города в литовской украйне, принадлежавших ему, — Черкасы и Канев, а взамен получил только один. Он терпеливо ждал полного возмещения, а Иван почему-то не торопился увеличивать его владения. То ли просто по скупости, то ли оттого, что не совсем доверял столь отчаянному человеку и опасался создавать на своей земле еще один крупный удел, в котором тоже могла завестись (если уже не завелась!) крамола.
Вишневецкий часто наезжал в Москву — и по вызову царя, и по своей воле, и никогда не возвращался без подарков, но это были всегда не те подарки, которых он ждал от царя… Вот и нынче — щедро был одарен казачий атаман: лошадьми-иноходцами в полном уборе, оружием, доспехами, серебром — белью 185 и утварью, шубами и мехами, поставами сукон, тафтой, камкой, жемчугом, рыбьим зубом, воском, солью, вином, но о самом главном, о том, чего больше всего ждал Вишневецкий, царь по-прежнему не заговаривал и даже не намекнул, не обнадежил…
Вишневецкий сидел хмурый, глаза его то выкатывались из глазниц, зло и брезгливо обрыскивая палату, то равнодушно заползали под веки — глубоко и надолго, и он становился похожим на дремлющего беркута.
По левую руку от Ивана первым сидел большой боярин Василий Михайлович Глинский — двоюродный брат Ивана по линии матери… По разряду он значился третьим в наивысшей боярской раде — после Бельского и Мстиславского, но еще до женитьбы Ивана на Марье Темрюковне Глинский, открыто выражавший недовольство этим браком, попал в немилость, подвергся опале и только благодаря заступничеству митрополита был прощен царем. Иван ради прошения и челобитья митрополита Макария отдал вину Глинскому, но взял с него крестоцеловальную запись, в которой Глинский торжественно присягал на верность Ивану и царице Марье, давал обещание не отъезжать к польскому королю, не вступать с ним ни в какие переговоры и верно служить царю. С той поры Глинский понемногу отошел от дел, к тому же и хворь тяжкая навалилась на него… Пошла молва, будто ядом испортили его — по тайному приказу новой царицы.
Рядом с Глинским сидел коломенский епископ Варлаам, благословлявший нынче яства и пития, за епископом — чудовский архимандрит Левкий, единственный, пожалуй, кому пир был в пир и кому за царским столом было так же вольготно, как у себя в монастырской трапезной, а за Левкием — чего ждали и не ждали — Михайло Темрюк, меньший брат царицы.
Иван выслушал Захарьина с гордым спокойствием, сдержанно, коротко сказал:
— Пожалуй, боярин, одесную 186 за наш стол, — и, проводив его глазами, приветливо примолвил: — Хлеб-соль и здравие тебе!
Захарьин сел пятым… По древнему обычаю, заведенному еще великими князьями, за столом государя, под каждой его рукой, садилось лишь пятеро… Они обозначали пять перстов каждой его руки и должны были быть самыми верными, самыми дорогими ему людьми, без которых он не смог бы обойтись, как без пальцев на своих руках. Не нарушал этого обычая и Иван: и за его пиршественным столом, как за столом его отца и деда — под каждой его рукой, — тоже неизменно сиживало по пяти человек, но перстами его рук они никогда не были и никогда он не мог сжать их в кулак…
— Скажи нам теперь, боярин, — вновь обратился Иван к Захарьину, — кто из званых на пир не явился?
— Княж Олександр Горбатый, государь, да княж Иван Хворостинин.
— Не буду спрашивать про Горбатого… — помрачнел Иван. — Хворостинин пошто же?.. Нешто все еще хвор?
— Помер княж Иван Хворостинин…
— Господи!.. — вздрогнув, прошептал Иван. — Помер?
— Помер, государь… Царство ему небесное! — перекрестился Захарьин.
Иван тоже перекрестился — молча, скорбно — и задумался, но вдруг, словно пожалев о своем молчании, решительно и как будто кому-то в назидание или в отместку сказал:
— Я любил его! Славный был муж!
— Вдову да сыновей своих княж Иван на твою волю оставил, государь, — бесстрастно, но как раз к словам Ивана прибавил Захарьин.
— Что ж… — обрадовался Иван, — я пожалую их! Вдову в горе утешу, как смогу, а сыновьям… ежели службы не погнушаются, место достойное укажу. А сейчас велю звать их на пир! Шлите гонца к молодым князьям, пусть прибудут по зову моему!
…Понесли пироги с капустой и грибами, а к пирогам пареных кастрюков 187 в шафрановой заливке… На царский стол подали полного осетра — пуда на полтора, — поблескивающего роговистым хребтом, казавшимся усыпанным крупными изумрудами. Трое стольников принесли его на двухаршинном подносе, поставили перед царем — на отведывание… Царь первым отведывал яства, и прежде царя никто не мог прикоснуться к поданному на стол.
Федька Басманов, стоявший кравчим у царского стола, быстро рассек осетра на части, наполнил царскую чашу и стоявшие рядом с ней потешельные кубки красным вином. Царь отведал осетра, похвалил… Лучший кусок и кубок из правой руки послал воеводе Зайцеву. Зайцев торжественно кланялся на три стороны, велеречиво благодарил за подачу 188. Иван слушал Зайцева терпеливо, спокойно и как будто внимательно, но надменно потупленный взор его мог таить в себе и совсем обратное…
Выслушав Зайцева, Иван тихо, медленно выговорил:
— Хочу, чтоб все ведали, почто честь сему мужу… Сей муж — храбрый воин, что искони в нашей земле почитается выше прочего! Он первым пошел на приступ полоцкой твердыни, и посему ему первому наше здравие!
Иван поднял свою чашу — всё в палате, кроме него самого, встали… Здравие Зайцева пили стоя. Пригубил свою чашу и Иван: пил до дна он только тогда, когда здравицу провозглашали в его честь.
Из левой руки Иван послал потешельный кубок за дьяческий стол — дьяку Висковатому, и, хоть слал из левой руки, кубок, предназначенный первому дьяку, был куда драгоценней, чем тот, что дослал из правой — Зайцеву.
Тяжелый сардитовый 189 кубок, оправленный в золотую скань, отнесли слуги на золотом подносе дьяку Висковатому. Притаилась палата — не до пареных кастрюков в шафране, не до хмельного пива!.. В глазах растерянность, в открытых ртах — немота… Невиданное творится! Раньше лишь именитым подносил царь такие дары, а теперь — господи, глазам не верится! — дьяку! Пусть самому первому, пусть самому важному — но дьяку!
Висковатый благодарил царя просто, не витийствуя, не изощряясь в хвалах… Выпил вино, раскланялся и спрятал кубок за пазуху.
Иван, выслушав скупую благодарность Висковатого, откинулся на подлокотник трона, громко, с веселой, но какой-то недоброй, заумной укоризной стал говорить:
— Увы мне грешному!.. Горе мне окаянному!.. Ох мне скверному, недостойному даже холопьих возблагодарений! Что тело мое, что душа моя, что мысли — какому делу великому изжертвованы они?! Что приискиваю, изнуряя их? Присных благ, роскошества, а иного не вем за собой! А верные мои, слуги мои, подручники мои?!. Они в беспрестанных радениях об отчизне нашей — Руси-матушке… Они рачительны, ревнивы, благоискусны, они животы свои и статки за отечество покладают… Вон как велика их жертва! Ох мне скверному и недостойному! В убогости и скуде несут они свой жребий, а я, окаянный, осторонь почиваю! Чужеспинник я, и раскаиваюсь, раскаиваюсь!.. Посему хочу пить здравие подручников моих, верных моих!.. И славословия им хочу — достойного славословия!
Иван выпрямился, поднял чашу…
— Кто же скажет здравицу в честь верных моих? Слышали, их здравие пить хочу!
Иван еще выше поднял чашу… Его взгляд прометнулся по затаившейся палате — упорный, заумный, чуточку глумливый, стоглазый взгляд, не обминувший никого и как будто выхвативший из души у каждого самое сокровенное и утащивший эту драгоценную добычу с собой, в свое логово — под кощунственно вздыбленные брови.
— Может, ты, дьяк? — спросил он Висковатого. — Не за льстивость, не за ясные очи твои потешил тебя я кубком и здравием! Знатно, за службу?! Ты також подручник мой, как и все иные, сидящие окрест тебя! Восхвали предо мной, грешным и скверным, подобных тебе!
Висковатый встал, положил руку на грудь, где лежал спрятанный под кафтаном кубок, спокойно заговорил:
— Государь, не очул ты от меня пущих слов благодарных, но милость твоя велика, и щедра, и тчива 190, и душа моя в ликовстве и в радости… и в смущении.
Висковатый глянул на Ивана открыто, искренне… Иван слушал его настороженно.
— …Ты велик уже тем, государь, что простому дьячине, отпустив ему худородие, милость и честь воздаешь, ценя в нем службу и усердие, и не посягаешь ущемить его перед иными, пусть и вельми знатными… Реку сие не для уподобания 191 — по сердцу реку, ибо сердце мое ближе к тебе, неже уста. И служба тебе и отечеству нашему, тобой вознагражденная, також от сердца моего, а не от уподобания нечестного.