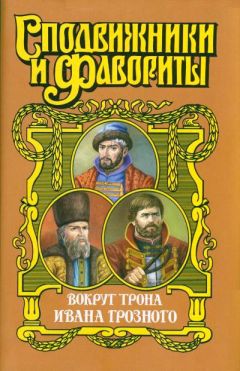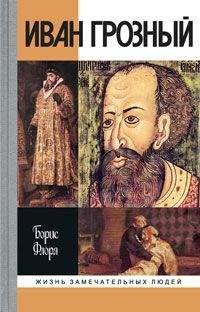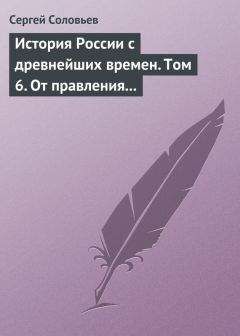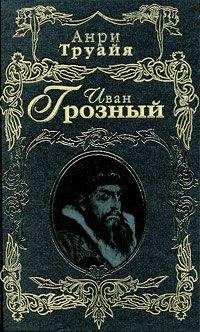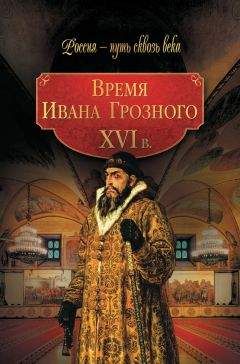Валерий Полуйко - Лета 7071
Шестьсот человек было звано на пир (со времен Казанской победы не знавали такого в Кремле!), а царь лишь три дня дал на приготовления, и три дня и три ночи без сна, без отдыха трудились на царском Кормовом дворе, на Сытном да на Хлебенном две тысячи человек: стряпухи и пекари, рыбники и мясники, кислошники и солодари, сбитенщики, пивовары, медушники, созванные Захарьиным со всей Москвы.
Три дня и три ночи, не затухая, пылали печи на хозяйственных дворах, а Захарьин дрожал от страху — пожара ждал, боялся, что спалят Кремль ретивые кухоря, и даже упросил царя уехать на это время из Кремля в село Воробьево. Царь уехал, посулив отрубить ему голову, ежели случится в Кремле пожар, и все эти ночи, три ночи кряду, лишь только, тяжко измаявшись за день, забывался Захарьин недолгим, усталым сном, ему начинал сниться один и тот же кошмарный сон: горел Кремль, горел царский дворец, горели соборы, церкви, рушились купола, кровли, падали колокола, горели стены, стрельницы, горела земля, горело небо… Видел он однажды такое наяву — лет пятнадцать назад, когда выгорело все деревянное в Кремле, и даже в каменных соборах погорели иконостасы, — и теперь ему снилось все точь-в-точь так, как это было тогда, и он вскакивал с ужасом, весь в ледяной испарине, мерцанье лампадки в святом углу разгоралось в его глазах до громадного зарева, и он бежал на крыльцо — босой, в одном исподнем, и только на крыльце, не высмотрев нигде огня и не вынюхав гари, чуть-чуть успокаивался и принимался молиться — рьяней, чем в церкви во время обедни.
Царь оценил усердие своего дворецкого: еще до начала торжества, осмотрев приготовленную к пиру Грановитую палату, послал он ему бочонок редкого и дорогого вина — аликант, — вывезенного из подвалов полоцкого детинца, а на пиру самого первого одарил яшмовым кубком в золотой оправе. Конечно, не одно лишь усердие вознаграждал Иван в своем дворецком: Захарьин был братом его первой жены Анастасьи и приходился родным дядей его сыновьям от нее — царевичам Ивану и Федору, наследникам престола, и своим даром, особой честью ему Иван недвусмысленно давал понять, что кровная связь рода Захарьиных-Юрьевых с царским домом по-прежнему будет возвышать этот род над другими и даже рождение нового наследника не поколеблет положения рода его первой жены.
Иван положил кубок в дрогнувшие руки Захарьина, дождался, пока тот отдаст поклон, и обласкивающе сказал:
— Сулился я голову тебе отсечь… Отсек бы! Но в гроб тебя, боярин, положил бы золотой. Радуешь ты сердце мое! Дай бог тебе пережить и своих и моих врагов!
…Иван сидел на троне сам повелел Захарьину поставить в палате золотой басмяный 178 трон: званы были на пир иноземные гости, и Иван ни в чем не хотел уронить перед иноземцами своего государского чина и грозы.
Трон стоял на высоком помосте, устланном коврами, перед троном — длинный, узкий стол, заставленный сплошь золотой посудой, посреди стола, прямо перед Иваном, — роговая чаша, из которой он пил сам, и два потешельных 179 кубка — их он отсылал со своего стола тем, кому хотел оказать честь.
Аршина на полтора возвышался царский трон и стол перед ним над остальными столами… Ивану видна была вся палата, и он был виден всем, и все в палате было во власти его жестов, его движений, его голоса, его глаз — быстрых, пронзительных, всевидящих… Невидимые, но прочные, неразрываемые нити и неотторжимые, будто вживленные в самую душу, тянулись от каждого сидящего в палате к его рукам, к его глазам, и каждый его взгляд, поворот головы, улыбка или нахмуренность, каждое его слово, каждое его движение дергали, дергали, дергали эти впившиеся в душу нити и изводили, измучивали, исступляли, как боль, от которой невозможно было избавиться.
Необычен был царь, ох как необычен!.. И неузнаваем, как будто приживил свое лицо к кому-то другому и стал двулик, и душа его стала двоякой и еще более непонятной, еще более страшной. В поход уходил одним — вернулся совсем-совсем другим! И — этот трон на пиру!.. Только простодушный поверит, что поставлен он ради того, чтоб ему своего государского чина перед иноземными гостями не уронить. Знает он сам, что не так уж их много — простодушных, потому и повелел поставить трон — для своих повелел: своим, а не иноземцам тщится показать свой чин и грозу! Или — его одежда!.. Когда еще так пышно облачался он?! На посольских приемах, случалось, сиживал в простом кафтане, без барм 180, и без венца, и без посоха, а тут обрядился в кабат 181 из венецейского петельчатого оксамита, шитого пряденым золотом; поверх кабата — золотое оплечье с финифтью, все в яхонтах, в изумрудах, в рубинах; обязь 182, осыпанная бирюзой и алмазами, с Тохтамышевой жемчужиной на пряжке…
Знаменита была жемчужина, сверкавшая в Ивановой обязи. Когда-то принадлежала она золотоордынскому хану Тохтамышу, который носил ее в глазнице вместо выбитого в сражении глаза, — так велика она была! Велик был и Тохтамыш, свергший самого Мамая и единственный из всех татарских ханов, кому однажды удалось овладеть Москвой и Кремлем… Велика была орда: Чингисхан, Батый, Мамай, Тохтамыш, Ахмат, а осталось от всего этого — одна жемчужина!
Еще отец Иванов, великий князь Василий, показывая жемчужину больно заносчивым иноземным послам, с гордостью и недвусмысленной назидательностью говорил:
— Зрите, сие все, что лишилось от Батыевой орды… А Русь как стояла, так и стоит!
Иван после покорения Казани повелел было вделать жемчужину в казанский венец, предназначенный им для своего ставленника в Казани — касимовского царя Саин-Булата, но потом передумал и приказал вправить жемчужину в пряжку своей обязи.
Слов своего отца он не повторял, но, когда требовалось напомнить о своем собственном величии и о величии Руси, он надевал обязь, и огромная жемчужина бывшего золотоордынского хана лучше всяких слов делала это.
Нынче тоже не без умысла надел он свою обязь, и кабат, и оплечье… Всем, кого он созвал сюда, в палату, и усадил у подножия своего трона, — всем без разбору: друзьям — чтоб ободрить их, врагам — чтоб устрашить! — решил он нынче напомнить, что мальчишка, дерзнувший пятнадцать лет назад назвать себя царем, стал царем, и останется царем, и отныне только так — у подножия его трона будет вершиться их судьба и судьба всей Руси. Все уже знали, что день назад Васька Грязной приколотил над дверью думной палаты топор, и столько тайн сразу напридумывали о его происхождении, столько нашептали, наплели, изощряясь в догадках, что ни в чем уже не были уверены, и только о значении этого топора не нужно было много гадать…
Иван, видя, что его дар лишил Захарьина речи и тот вместо пристойной благодарности вот-вот непристойно плюхнется на колени, поспешил упредить его:
— Так что же, боярин, довлеть ты потешен моим подарком? Иль тебе по душе иная моя посулка?.. Золотой гроб?!
Преданно, с восхищением глядя на Ивана, Захарьин приложил кубок к груди и почтительно поблагодарил его.
— А врагов, государь, пережить нет возмоги, — прибавил он. — Враги нарождаются каждый день, как мухи, и живучи они, государь, ой как!.. Врагов подобает всеродно и неутомимо прать… Прать, государь, какомога!
— Полно, боярин!.. — широко, притворно улыбнулся Иван. — Нешто страшны так недруги наши, чтобы дела свои оставить да обратиться на них?! Пусть себе гомозятся! Все их умыслы и раченья пустошны и тщетны… Ибо не на человека они восстают, но на дела его. А дела наши святы! Велением бога нашего творим мы их, во имя веры нашей правой, во имя Руси, отчизны нашей, во имя грядущего дня! Недруги же наши. помышляют токмо о дне нынешнем… но приходящее днесь днесь и отыдет! И в дне грядущем не будет им части и жребия, ибо сердца их не правы перед богом!
— Истинно, государь!.. — умилился Захарьин, хотя и понял, что это надменное равнодушие к врагам — всего лишь изощренная нарочитость Ивана, хитрая уловка — не более, но уж очень проникновенно, убежденно и страстно говорил Иван, и красиво (умел говорить Иван), и Захарьин, даже понимая всю нарочитость Ивановой страсти, все же проникся ею. — Твое тщание, твои помыслы, дела твои — святы! И камень твой краеугольный, который отвергают недоброхоты и скудоумные строители, в грядущем здании 183 соделается главою угла. И как писано: тот, кто упадет на сей камень, — разобьется, а на кого он упадет, того раздавит!
…По обе стороны от Ивана, на сяг 184 от него, сидели: по правую руку — удельный князь Юрий, родной брат Ивана, глухонемой, пучеглазый уродец, жадно уплетавший изюм и запивавший его малиновым медом, рядом с ним сидел Мстиславский, рядом с Мстиславским — Челяднин, за Челядниным — князь Вишневецкий — лихой казачий атаман, бывший каневский староста и начальник всей литовской украйны, перешедший на службу к Ивану и получивший от него в вотчину Белев со всеми волостями и селами, откуда он приехал нынче на Москву, чтобы поздравить царя с великой победой и поднести ему свои дары, да и от него получить… Надеялся удалой днепровский казак, что московский государь не обойдёт его своими милостями и добавит к его вотчине городков и сел… Много служб сослужил он царю в его борьбе с крымцами: три раза ходил с отрядами промышлять над Крымом, до самого Перекопа доходил, громя татарские улусы и стойбища, дважды брал крымский город Ислам-Кермен и такого страху нагнал на Девлет-Гирея, что тот даже турецкого султана стал просить спасти его от беды. За те пять лет, которые Вишневецкий прослужил у Ивана, Девлет-Гирей только один раз решился напасть на московские окраины, да и то, дойдя лишь до реки Мечи и узнав, что Вишневецкий в Белеве, а другой, не менее страшный для него воевода Шереметев — в Рязани, с большим отрядом повернул назад и на обратном пути почти начисто переморил в зимней степи своих людей.