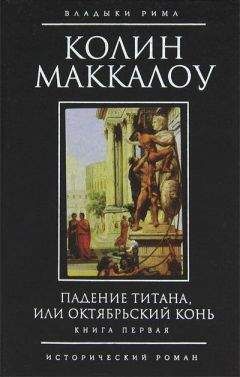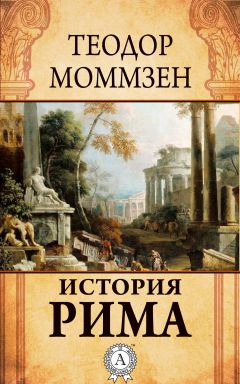Михайло Старицкий - Буря
— Кланяйтесь, братцы, пониже челом им! — захохотал Сыч. — Коли каждому лядскому буханцу такая честь, так и шее будет накладно.
Все как–то смешались и сконфузились.
— Напрасно ты, Сыч, пристыдил товарыство, — заступился добродушно Богдан, — наш козацкий звычаи таков, что и ворогу отдаем челом; дальше на всякое чиханье не наздравствуешься, а на первый раз за ласку лаской.
— Спасибо, ясновельможный батьку, что за нас заступился, — загалдели козаки, махая шапками.
— А вот мы еще по батьковскому совету и им ласку пошлем, — приложил Сыч фитиль к «панянке».
— Только ты не утруждай ее чрезмерно; на всех горланов ляшских ее не станет, да и лучше не дразнить ос, а то видишь, как они далеко хватают, могут надоесть… А вот как перейдем на ту сторону, тогда и наши гарматы наддадут, понатужатся, так ляхам невтерпеж станет.
Шутливые слова гетмана бодрили всех и подымали на бой, на молодецкую схватку; лица у козаков горели возбуждением, глаза играли отвагой.
Богдан шел обратно по проснувшемуся уже, оживленному лагерю и всюду встречал горячие приветствия, на которые отвечал задушевно, тепло, подымая во всех дух величием цели этой борьбы и полною верой в ее славный исход.
А ядра между тем хотя и не часто, но проносились с гоготаньем над лагерем, или погружались с шипеньем и фонтаном брызг в тину Жовтых Вод, или с треском и звяканьем попадали в возы, разбивая колеса, полудрабни, опрокидывали их, попадали иногда в коней и производили смятение. В иных местах раздавались по временам проклятия и стоны. Впрочем, обстреливание козацкого лагеря шло лениво, временами затихая совсем; у поляков было немного дальнобойных орудий, а козаки с одной «панянкой» вскоре умолкли.
Так прошел день. Прекратив пальбу, поляки тихо и молча окапывали и укрепляли свой лагерь, не помышляя уже о нападении, а готовясь лишь к обороне. Молодой Потоцкий рвался сделать хоть вылазку, хоть открыть сильный артиллерийский огонь, но военный совет убедил его не предпринимать никаких вызовов к бою впредь до прихода вспомогательных войск. Скрепив свое пылкое сердце, молодой региментарь должен был подчиниться этой раде и просил лишь бога, чтоб козаки их первые задели, чтоб подали первые повод к битве.
В козацком лагере стоял между тем веселый шум и росло доброе оживление. Кто исправлял, снаряжал оружие, кто рассказывал про боевые схватки и случаи, кто передавал про неистовства панов и посессоров, кто рисовал картины предстоящей расплаты. В иных местах играли в сурмы и трубы; в других бандурист играл на бандуре и пел про рыцарские подвиги козаков, про славу бессмертных героев; в третьих хор подхватывал удалую песню.
Целый день Богдан не садился и даже не входил в свою палатку: он боялся быть наедине, остаться со своими думами. Морозенко не возвращался назад. Богдан послал другого есаула к Тугай–бею, но и тот словно упал в пропасть. Жгучая, сверлящая тревога за своего союзника–побратыма охватывала гетмана с каждым мгновением все больше и больше, терзая всякими предположениями.
Наступил и вечер, сумрачный, почти осенний; начал моросить мелкий дождик. Завернувшись в сиряки и видлоги, козаки улеглись возле пылающих костров. Богдан шел от Кривоноса и не знал уже, завернуть ли ему в свой намет или сесть на Белаша и полететь самому к Тугаю, как вдруг навстречу ему выбежал джура и сообщил, что Морозенко возвратился и ждет в намете ясновельможного.
Богдан даже ухватился за воз — таким варом обдало его это известие; несколько мгновений простоял он неподвижно, усиливаясь захватить в грудь побольше воздуха, и потом быстрыми шагами двинулся к своей палатке.
Увидя Морозенка, он даже не спросил у него ничего, словно не хватило на это звука, а лишь уставился на него мучительно–вопросительным взглядом. Когда же Морозенко передал ему последние слова Тугай–бея, то Богдан не выдержал и воскликнул: «Прости мне, боже, мои сомнения и духа уныния не даждь ми!».
LX
Было за полночь; беспросветный мрак скрыл уже своим пологом оба лагеря и полз к Жовтым Водам; мелкий дождь моросил и усиливал его еще больше. Среди однообразного шума дождевых капель послышались вдруг у берега речки чвакающие звуки конских копыт и в клубившейся тьме показались неясные силуэты нескольких всадников.
— Ты ж, Морозенко, добре знаешь, где другой брод? — послышался среди всадников сдержанный голос, звучавший густым басом.
— Так, так, пане полковнику, — ответил другой, молодой, голос, — как ездил к Тугаю, все выглядел гораздо; тут ляхиразгрузили, а там дальше перебраться чудесно, и вербы густо растут… За ними и притаиться можно.
— Гей, панове атаманы, — пробасила тихо гигантская тень, — за нами ведите хлопцев ключом, да чтоб и мышь не проснулась.
Приказание передалось шепотом от одного к другому, и за первым всадником потянулись длинною вереницей силуэты конных фигур, выплывая из тьмы и погружаясь через миг в нее снова.
Далеко левее этого места кто–то брёхался конем в тине и хотя не полным голосом, но все же довольно внушительно ругал речку: «А чтоб ты всохла, жовта тванюка! Ишь, ни взад, ни вперед».
— Да куда ты, Чарнота, залез? — раздался из тьмы резкий шепот. — Налево выбирайся: еще далеко до броду.
— Хоть дулю под нос — не видно!
— Дай повод, я тебя проведу; нам ведь еще гонов за двое переходить.
— Веди, веди; ведь ты, Ганджа, верлоокий, как волк, — ночью видишь.
— Ха–ха–ха! — засмеялся вожак. — Сегодня все, брат, станем волками, как накинемся на ляхов невзначай. Ну, теперь проворнее: наши уже ушли… догнать надо. Гайда!
И две тени потонули во мраке.
Между тем в козацком лагере, по–видимому спавшем мертвецки при потушенных даже кострах, происходило в действительности что–то необыкновенное. Таинственно и суетливо двигались тени, рассыпаясь по табору и соединяясь потом в стройные массы. С правой стороны у разомкнутых возов мерещилась расплывчатыми в сумраке очертаниями фигура гетмана на коне, окруженная атаманьем; неторопливым, уверенным тоном делал он свои последние распоряжения:
— Ты, Кривонос, со своими славными пехотинцами перейдешь вброд Жовтые Воды и подкрадешься на добрый мушкетный выстрел к лядскому лагерю; рассыпься между кустами и начни щелкать о панские брюхи орехи. Ты, Кречовский, с рейстровиками заляжешь за Кривоносом густыми лавами, там как раз есть и лощина, а Богун со своим конным отрядом переправится немного правее и прикроет вал, я же с моими бесстрашными запорожцами подойду слева и займу центр. Коли ж Кривоносовы осы доймут пышную шляхту и заставят ее выйти в поле, то первый ее натиск встретит Богун и привлечет к засаде. Если же они отважатся двинуть на нас и главные силы, то я их приму на свою грудь. А вы тогда, друзи, ты, Кривонос, со своими вовгурами, и ты, Кречовский, с рейстровиками, киньтесь в их лагерь, а с тылу еще пригнетит Тугай–бей. Ты же, Небаба, и ты, Нос, остаетесь с резервами в лагере. Переправлять возы через топь трудно, а гарматы и совсем невозможно, так вот ты и приготовь загату, загрузи несколько возов, постели по ним доски и через этот помост уже двинешься с гарматой и обозом, а пока что покашливай из «баб» и «панянок», хоть и надарма, лишь бы дымом застлать твои работы по переправе.
— Все исполним, ясновельможный! Костями ляжем за нашего батька! — загомонила вокруг старшина.
— Спасибо, друзи, верю! Не за меня только ложитесь костьми, а за кровный люд да за родину. За них и я несу свою голову. Помните, братцы, что сегодняшняя битва для нас все: либо пан, либо пропал. Так вот, ежели где–либо что — не допускайте смятения.
— Будь покоен, батьку, не дрогнем, — посыпались бодрые отклики.
— Это и малому дитяти известно, — подхватил энергично Богдан, — что нет на всем свете равных вам по отваге и силе.
— Спасибо, спасибо, батьку! — раздались воодушевленные возгласы и старшины, и ближайших козаков.
— Победа, братья, — продолжал гетман, увлекая всех своим бодрым, уверенным словом, — в наших руках. Этот дождик — божия к нам ласка; если он пойдет дольше, то так разгрузит поле, что уланы завязнут в нем своими тяжелыми конями. Что уланы? Драгуны даже не двинутся с места.
— А то, пожалуй, и к нам придут, если двинутся, — засмеялся кто–то.
— Что ж, братья к братьям, — заметил Небаба.
— Дай господи! — произнес торжественно Богдан. — С ним, мои братья и друзи, дерзаем! Соберем же все силы нашего духа во славу поруганного в наших храмах бога и ударим, не жалеючи жизни, на жестокого и кичливого врага! Не бойтесь этих пугал в крыльях и леопардовых шкурах! Чем они вас запугают — перьями на шапках, что ли? Разве отцы ваши не били их? Вспомните славу дедов наших, что разнеслась по всему свету! И вы одного с ними дерева ветви! Покажите ж свое завзятье! Добудьте славы и рыцарства вечного! Всемогущий господь вам поможет! Кто за бога, за того бог!