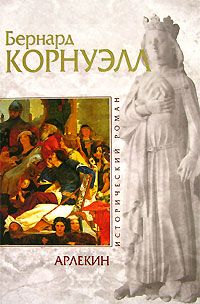Умберто Эко - Имя розы
Он обвел присутствующих взглядом заговорщика, громко хохоча. Но этот смех был смехом полоумного. Хотя, как правильно заметил и позднее указал мне Вильгельм, полоумному хватило ума утащить за собою в пропасть, им самим и вырытую, и Сальватора, в качестве мести за донос.
«А как ты повелевал дьяволом?» – не отставал Бернард, принимавший весь этот бред за форменное признание.
«Ты сам знаешь прекрасно, столько лет якшаешься с одержимыми, должен был усвоить их привычки! Ты сам все это умеешь, потрошитель апостолов! Берешь черного кота, так? Без единого белого волоска, правильно? Перевязываешь ему все четыре лапы, а потом несешь его в полночь на перекресток и кричишь громким голосом: “Великий Люцифер, повелитель ада! Я беру тебя и ввожу тебя в чресла моего врага, и как я имею этого кота, так ты имей моего врага, и доведи его до гибели, и на этом распутье завтра в полночь я отдам тебе кота, закалаю во твое здравие, а ты сделай все, что я велю; и приказываю тебе силами черной магии, которую познал я по черной книге Св. Киприана, во имя всех предводителей набольших легионов ада, Адрамелха, Аластора, Азазела, на которых я молюсь, на них и на всех их братьев…”» Губы его скакали, глазные яблоки почти что вылезали из орбит, и он громко молился – вернее, вместо молитвы воссылал свои прошения к баронам всех преисподних подразделений. «Албигор, греши и насилуй нас… Амон, иже еси в преисподни… Самаэл, избави нас от правого… Велиал Элейсон… Фокалор, неси порчу и помрачение… Хаборим, господи стотрепроклятый… Зэвос, разверзни ложесна мне… Леонард, излей семя на мя и опогань…»
«Довольно, довольно! – завопили присутствующие, крестясь и отмахиваясь.
– Господи, прости, не покарай всех нас!»
Келарь смолк. Выкрикнув тысячу бесовских имен, он пал на лице свое, изблевывая из перекошенного рта беловатую пену, скрежеща сцепленными зубами. Его руки, намертво скрученные цепями, конвульсивно сжимались и разжимались. Ноги подергивались, рывками били по воздуху. Почувствовав, что я охвачен ужасом, Вильгельм взялся рукой за мою голову и крепко стиснул, сдавил затылок, приводя меня в чувство. «Вот смотри, – сказал он. – И запомни, что под пыткой или под угрозой пытки человек рассказывает не только то, что сделал, но и то, что мог или хотел бы сделать, хотя сам того не сознавал. Теперь Ремигий призывает смерть всей своей душой».
Лучники вывели келаря, все еще корчившегося в конвульсиях. Бернард сложил в стопу свои листы. Потом обвел взглядом присутствующих, которые замерли во власти страшного смятения.
«Допрос окончен. Сознавшийся подсудимый будет препровожден в Авиньон, где состоится окончательное заседание суда с соблюдением всех процессуальных норм, в духе истинности и справедливости. И только после этого законного разбирательства он будет сожжен. Вам, Аббат, этот человек уже не принадлежит. Ни вам, ни мне. Я выступал только в качестве смиренного орудия истины. Орудие же правосудия не здесь. Пастыри исполнили свой долг, теперь дело за псами, пусть отделят паршивую овцу от паствы и очистят ее огнем. Печальная эпоха, в которую этому человеку удавалось зверски злодействовать, завершена. Отныне в аббатстве настанет покой. Но в мире, – голос его возвысился; теперь он обращался прямо к членам делегаций, – в мире далеко еще нет покоя, мир раздирают ереси, которые находят пристанище даже в залах императорских дворцов! Пускай же братья запомнят, что cingulum diaboli[89] тянется от извращенных последователей Дольчина к почтеннейшим заседателям Перуджийского капитула. Не будем забывать, что перед очами Господа богохульства этого злосчастного, которого мы только что передали правосудию, ничем не отличаются от разглагольствований умников, кормящихся при столе отлученного германца в Баварии. Источник гнусности еретиков кроется во множестве безответственных прилюдных проповедей, зачастую высокочтимых и покуда еще редко наказуемых. Многотрудная часть, тяжелый крест – путь того, кто призван Всевышним, подобно моей смиренногрешной особе, выискивать змия инакомыслия повсюду, где он затаился. Однако исполняя это святое задание, приучаешься понимать, что еретик – не только тот, кто открыто проповедует ересь. Нет, сочувственников ереси находят по пяти опознавательным признакам. Во-первых, это те, кто тайно посещает еретиков, когда те пребывают в узилище; во-вторых, те, кто плачет из-за их взятия и кто был им близким другом на свободе (посудите: невероятно, чтобы они не знали о вредной деятельности еретика, если часто с ним встречались); в-третьих, те, кто утверждает, будто еретиков приговорили неправосудно, несмотря на то, что во время следствия была признана их вина; в-четвертых, те, кто недружелюбно отзывается и дурно думает о лицах, борющихся с еретиками и успешно обличающих их с кафедры; о мыслях такого рода, в свою очередь, есть возможность судить по глазам, по носу, по выражению лица, которое эти люди пытаются спрятать от всех, прикидываясь, будто осуждают тех, кому на самом деле сердечно сострадают, и будто бы они уважают тех, кого из-за подлости на самом деле презирают. Пятый признак, наконец, – это когда подбирают обуглившийся прах наказанных еретиков и превращают в предмет поклонения… Ко всему этому должен добавить, что я приписываю великую силу также и шестому признаку и предлагаю считать неприкрытыми сообщниками еретиков тех, у кого в книгах (неважно, есть ли там прямые высказывания против христианской веры или нет) еретики находят для себя опору и откуда берут посылки, чтобы строить свои извращенные силлогизмы…»
Произнося это, он смотрел на Убертина. И все члены францисканской делегации отлично поняли, на что намекает Бернард. С этой минуты встречу можно было считать проваленной. Никто бы теперь уже не осмелился выступать на диспуте, ибо всем было ясно, что отныне каждое слово будет восприниматься в свете недавних прискорбных происшествий. Если Бернард был прислан папой именно для того, чтобы не допустить примирения двух группировок, – он блестяще справился с заданием.
Пятого дня
ВЕЧЕРНЯ,
Когда народ неспешно покидал капитулярную залу, Михаил протиснулся поближе к Вильгельму, и тут же рядом с нами оказался Убертин. Вчетвером мы вышли на улицу. Таким образом, беседа протекала в церковном дворе, под прикрытием тумана, который и не думал рассеиваться, а напротив, все больше густел и темнел от наступавших сумерек.
«Думаю, обстановка в пояснениях не нуждается, – сказал Вильгельм. – Бернард нас разгромил. Не спрашивайте меня, виноват ли этот балбес дольчинианин во всех преступлениях. На мой взгляд – он вообще ни при чем. Но хуже всего, что мы снова на исходной позиции. Иоанну ты, Михаил, нужен в Авиньоне один. И нынешняя встреча не дала тех гарантий, за которыми мы приехали. Наоборот, она показала, как они сумеют вывернуть и извратить каждое твое слово. Вывод из этого, по-моему, один – что ехать тебе нельзя».
Михаил тряхнул головой: «И все-таки я поеду. Не хочу раскола. Ты, Вильгельм, сегодня высказался весьма ясно и недвусмысленно. И дал понять, куда метишь. Так вот, мы метим вовсе не туда. И я прекрасно сознаю, что постановления перуджийцев использованы вами, имперскими богословами, вовсе не в том духе, в котором они замышлялись. А мне нужно только одно – чтобы папа позволил французскому ордену его принцип бедности. Мне нужно, чтоб до папы дошло, что только укрепив орден этим принципом, можно будет снова поглотить все еретические ответвления. Меня не интересуют ни народная ассамблея, ни человеческие права. Мое дело – не допустить, чтобы орден распался на несколько полубратских отрядов. Я еду в Авиньон. И, если потребуется, подчинюсь Иоанну во всем. Я уступлю по всем вопросам, кроме бедности».
Вмешался Убертин: «Ты понимаешь, что рискуешь жизнью?»
«Что ж, – ответил Михаил. – Это лучше, чем спасением души».
Он рискнул жизнью, и очень серьезно, а если исходить из того, что правда была на стороне Иоанна (во что я, слава Богу, не верю), – погубил вдобавок и душу. Как всем теперь известно, Михаил отправился к папе через неделю после событий, о которых я рассказывал. Тот проторговался с ним четыре месяца, а потом, в апреле следующего года, Иоанн собрал консисторий, на котором обозвал Михаила безумцем, спесивцем, упрямцем, тираном, поборником ереси, гадюкой, которую выгрела церковь на самой груди. Замечательно, что с точки зрения его собственных представлений о добре и зле Иоанн был совершенно прав, потому что за четыре месяца Михаил сдружился с другом моего учителя, другим Вильгельмом, Вильгельмом Оккамским, и целиком перенял его идеи – не слишком отличающиеся, невзирая на чуть более резкую формулировку, от тех, которые мой учитель разделял с Марсилием Падуанским и которые высказывал высокому собранию в то давнее описанное утро. Пребывание этих диссидентов в Авиньоне в общем себя исчерпало, и в конце мая Михаил, Вильгельм Оккамский, Бонаграция из Бергамо, Франциск из Асколи и Генрих из Тальгейма ушли в бега; люди папы преследовали их через Ниццу, Тулон, Версаль и Эгмор, где наконец их догнал кардинал Петр из Аррабаля, который безуспешно стал уговаривать их вернуться, но не смог победить их сопротивление, их ненависть к папе, их боязнь. К июню они были в Пизе, где их с великим шумом встретили придворные императора, и через несколько месяцев Михаил публично проклял папу Иоанна. Увы, слишком поздно. Сила императора убывала, в Авиньоне Иоанн плел интригу, навязывая миноритам нового руководителя, и в конце концов одержал победу. Лучше бы было для Михаила в тот день, если бы он передумал ехать к папе. Он мог бы, будучи рядом, организовать сопротивление миноритов, не было бы потеряно столько драгоценных месяцев в ожидании милостей от врага, не были бы ослаблены его позиции внутри и вне ордена… Но, наверно, именно так было суждено божественным провидением, ибо сейчас, по прошествии стольких десятилетий, я не в состоянии уже указать, на чьей стороне была правда, когда миновало столько времени, когда огонь страстей угас, а вместе с ним угасло и то, что тогда представлялось моей душе светом божественной истины. Кто сейчас способен сказать, Гектор был прав или Ахилл, Агамемнон или Приам, в их войне за улыбку той женщины, которая ныне – прах праха?