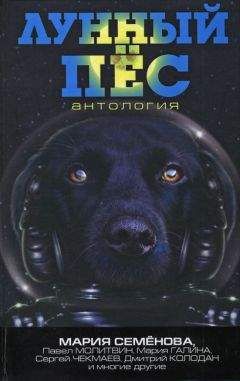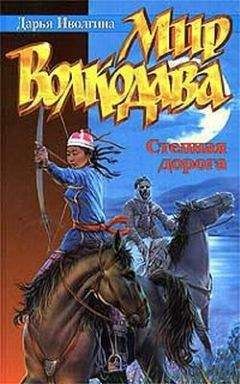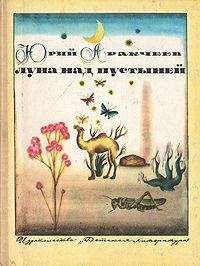Юрий Давыдов - Соломенная Сторожка (Две связки писем)
Лопатин не стал бы уверять, что там, в крепости, ему было тяжелее, чем товарищам по заточению. А между тем… Конечно, условия существования были одинаковыми, да вот душа-то существовала не слитно с товарищами. Тех соединяла не только общность доктрины, которую он, Лопатин, далеко не полностью разделял, но и капитальная складка психики – им была свойственна жертвенность. Через тернии к звездам? Да. Но для них – тернии, а звезды – поколению грядущему. Тернии они брали себе, и отсюда жертвенность, переходящая в желание настрадаться. Вот этого желания душа Лопатина не принимала, гордыня не принимала. Не та гордыня, что двойник высокомерия, а та, что держит позвоночный столб.
Теперь, на воле, все переменилось решительно и круто. Посреди ледохода надо определить, кто ты и что ты, ибо в революции нет пенсионеров – либо сегодняшняя сила, либо ничто. А он ощущал провал, разрыв, и в этом провале, в этом разрыве был трепет дожития.
В увесистом томе Большой энциклопедии он разглядывал таблицу «важнейших открытий и изобретений». За годы, слизанные Шлиссельбургом, человечество обогатилось опытным подтверждением электрической теории света и бездымным порохом, трансформатором и фтором в чистом виде, способом прокатки труб, рентгеновскими лучами, беспроволочным телеграфом, цветной фотографией, электрическим локомотивом… В книгах по естествознанию, на которые Лопатин набросился с жадностью, чуялся гул решительных перемен в знании движущих сил природы.
«О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух и опыт, сын ошибок трудных…» Да, готовят. Но просвещается ли дух? И старый каторжанин, сидя в своей мансарде, пишет: «Встретились мы с одним моим посетителем самым сердечным образом, но как только в моих речах стали мелькать такие выражения, как «социальная справедливость», «нравственная ответственность» и т. п. обветшалые слова и понятия, так легко и быстро упраздняемые в периоды великих общественных смут, когда в потоках крови гаснут моральные критерии, и вот уж физиономия моего собеседника стала затуманиваться и выражать горькое изумление, явное разочарование. Расстались мы, правда, сердечно и тепло, но мне показалось, что мой гость уходит как бы обманутым в своих лучших чувствах и надеждах. Да, я нахожусь между Сциллою и Харибдою: мне приходится или повторять слепо и доверчиво слова и лозунги, т.е. терять уважение к себе, или же рассуждать своим умом, открыто высказывая критические замечания и сомнения, т.е. терять уважение других (и очень хороших) людей, которые станут, может быть, видеть во мне выжившего из ума старика, далеко отставшего от века и малодушно трепещущего за жалкие остатки жизни. Я неисправимый самоед, вечно поглощенный самоосуждением, вечно недовольный самим собою, а потому и мало склонный к осуждению других. И здесь, в многолюдстве, я глубоко одинок. Верно, пожалуй, то, что побороть это одиночество и вернуть меня самому себе может только друг-женщина. Но стоит ли думать и говорить о неосуществимом,..»
* * *Пришел Всеволод Александрович, взбодрил печь, огонь взялся гулко. Лопатин оставил перо, придвинул стул, сел рядом с братом, протянул руки к огню; большие, лобастые, бородатые, сидели они у печи и вдруг, как бы и беспричинно, прониклись особенной, кровной, фамильной близостью, но словно бы и не сиюминутной, а ставропольской, гимназической, когда жили в одной комнате, в отчем доме.
Всеволод Александрович раздобылся нынче сборником «Социал-демократ», давней книжкой, женевской, там была библиографическая заметка Плеханова, Плеханов упоминал о Германе, хотелось показать брату, но сейчас все отодвинулось, затушевалось покоряющей фамильной близостью, не рассудочной, а живой, трогательной, грустной.
Это чувство в душе его брата как бы продолжилось и слилось с написанным минуту назад, еще и чернила не высохли, слилось, подступило вплотную, и Лопатин произнес: «Зина… Зинаида Степановна…» Всеволод Александрович знал, что она уже несколько лет как рассталась «с этим своим живописцем», знал, что Герман получил от нее письмо, но не расспрашивал: Герман не дает поводов, стало быть, не лезь сапогом в душу… А сейчас – произнес: «Зина, Зинаида Степановна», звук этот отозвался состраданием, жалостью к Герману, и с той нежной чуткостью, какая могла возникнуть лишь в мгновения безотчетной, живой и полной близости, Всеволод Александрович уловил в душе брата ответное горестное движение.
– Нет, это неосуществимо, – сказал Герман, будто отвечая своим мыслям, но вместе и обращаясь именно к нему, к Всеволоду. – Это неосуществимо, так-то… – И рассказал, что Зина некоторое время жила в Париже, практиковала, как в молодости, в психиатрическом отделении приюта св.Анны, потом вернулась в Россию, получила место близ Пскова, квартира, электричество, ванная. Словом, лучшего и не придумаешь, чему он, Герман, искренне рад.
– А не повидаться ли? – осторожно спросил Всеволод Александрович.
Лопатин вздохнул:
– Это неосуществимо. – И, помолчав, добавил: – Если б ненароком и встретились, то вышло бы так, я наперед знаю: открытое, но холодное признание ее действительных достоинств; благовоспитанное молчание о ее недостатках. Вот и все, дальше этого не пошло бы.
Большие, бородатые, лобастые, они сидели у печи под скошенным потолком мансарды, был гулок огонь, была на дворе вьюга, чувство особенной, изначальной близости не утрачивалось, но Всеволод понимал, что есть нечто, пред чем бессильна самая горячая и безоглядная братская любовь.
* * *Даже и с братом не следовало говорить о Зине. Расплачивайся: руки пляшут, а хуже того – бессонница.
Сон всегда освежал его, потому что снов не было. Как ни странно, а казематы, башни, карцеры – ничто тюремное, шлиссельбургское, ни разу не снилось Лопатину. Сон всегда освежал, а нынче – бессонница. Не дай бог привяжется, как бывало в Шлюшине, да и размочалит нервы.
Он зажег лампу-молнию, взял сборник «Социал-демократ», оставленный Всеволодом, женевский сборник восемьдесят восьмого года, перелистал и нашел статью Плеханова – давний отклик на давнюю брошюру «Процесс 21-го». Вот уже несколько недель эта брошюра была у Лопатина, он страшился прикоснуться к ней. Два с лишним десятилетия протекло с той поры, как военный суд судил Лопатина и его молодых сотоварищей-народовольцев, а рана не рубцевалась: он по-прежнему винил себя в арестах давно ушедших дней – не успел уничтожить кипу конспиративных бумаг. А что же пишет Плеханов?
И, медля чтением, Лопатин стал думать о Плеханове. Они были некогда дружны. Однако не столь тесно, как следовал бы, исходя из общности многих точек зрения. Да простит Георгий Валентиныч, известный в оны годы по кличке Волк и Оратор, он, Герман Лопатин, не тянулся к нему сердцем. Худо, а так было… Лопатин думал о Плеханове, опустив глаза на страницу «Социал-демократа», – прочел машинально: «Во всем, что касается революции, мне не 60, а дважды 30 лет», – воскликнул как-то старик Либкнехт…» Прочел и прислушался: нет, не аукнулась душа со стариком Либкнехтом. И потому, что этого не было, Лопатин почувствовал готовность испить чашу до дна. Ну, давай, Жорж, давай, Волк, бей до смерти.
«Нам могут, пожалуй, привести в пример Г.А.Лопатина и сказать, что вот, мол, был же человек, который основательно прошел школу научного социализма и все-таки нашел возможным пристать к «партии Народной Воли», ясно, стало быть, что программа этой партии не противоречила коренным убеждениям его. На это мы ответим, что Г.А.Лопатин мог пристать к «партии Народной Воли» по тем или другим политическим соображениям, не разделяя даже большей части положений ее программы… К тому же надо заметить, что и самое убеждение Г.А.Лопатина в том, что «другого исхода нет» и что ему нужно пристать к «партии Народной Воли», было совершенно ошибочно. Его бесспорно огромные силы принесли бы гораздо больше пользы делу русского социализма, если бы он, не пытаясь возвратить невозвратное и оживить умирающее, энергично взялся за создание новой партии в России».
В Шлюшине, пожалуй, было теплее… Поверх одеяла набросил Лопатин пальто. Дьявольски холодно, подумал он опять, но уже думая о холодности Плеханова. Да, да, ты прав, Георгий, прав, но прав-то умом, не сердцем. У тебя скальпель, ты препарируешь, как в анатомическом театре, рассуждая, мой милый, задним числом. Ну как было оставаться на другом берегу, вчуже взирая на «стан погибающих»? Все держал, все веревочки дергал этот предатель Дегаев, второе «я» мерзавца Плеве и обер-шпиона Судейкина, все держал, всех обрекал, и бедные, отважные «романтики» бились в сетях провокаций, бились и гибли, а я не брал в руки скальпель, не рассуждал задним числом, ну и выходит, что каждому – свое… Гм, лестно: «бесспорно огромные силы». Но не тешит, не тешит. Шлюшинским молотом расплющило, вот так-то, Георгий Валентиныч. Оченно теперь спорны эти «бесспорно огромные силы», да-с. Старик Либкнехт был молодцом: шестьдесят – дважды тридцать. А мне, батенька, за шестьдесят… Давненько уж случилось встретить в остроге соузника Чернышевского. Спрашиваю, а что, мол, Николай-то Гаврилович читывал «Капитал»? Отвечает: читал, однако не принял. Вот так! Я, помню, вспыхнул: за Маркса обиделся, вознегодовал на автора «Что делать?» А потом, после уж и подумалось: порог есть, барьер, от нас не зависящий, – не понимаешь и не принимаешь идеи, слишком удаленные от идей твоей молодости. Ньютона возьми, гениального Ньютона – отверг колебательную теорию света. Или Бэр, почти гениальный Бэр, отвергающий Дарвина. «Фатально, фатально», – печалился некогда Петр Лаврович. Вот и он, сдается, не поспевал бы нынче за теми, кто широко шагает. Приходится, увы, согласиться: на каждой исторической ступеньке остаются люди, которые не в силах подняться на следующую. И ты, Георгий Валентинович, знаешь это не хуже меня. Четверть века назад ты говорил о новой партии, повторяя: не следует думать, как Вольтер, во времена, когда Вольтер думал бы иначе. И что же? Новая партия есть, существует, борется, а ты во-он где – в арьергарде. Именно так. И потому слышишь горячие попреки от большевиков, от Ульянова, но взглянуть на самого себя вчуже подчас невмоготу даже и очень искусному диалектику… И если об Ульянове… Мне думается, судьба старшего брата сильно отозвалась на работе его мысли и не дала увлечься иллюзиями, пронзительное горе было, а вместе и необычайная трезвость. Мы, шлиссельбургские, узнали про казнь годы спустя, от дежурных узнали, она ночью свершилась, белая ночь была, майская; двор, где казнили, примыкал к нашей тюрьме, но оконца казематов глядели в другую сторону, ничего мы не слышали, ни звука.