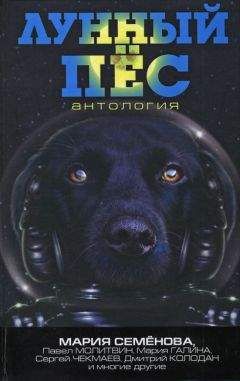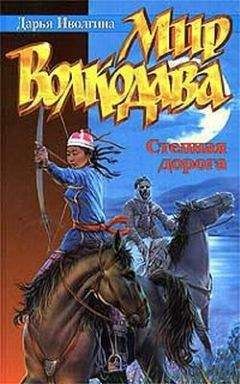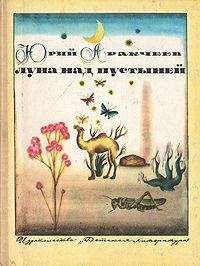Юрий Давыдов - Соломенная Сторожка (Две связки писем)
И потом, возвращаясь из Шлиссельбурга в столицу, и сейчас, в кабинете, когда все это давнее очнулось в памяти, Дурново не умел внятно сознать, почему в каземате двадцать седьмого он оставался полтора часа. И выслушал все, что было произнесено, вразумительно и твердо, с интонациями южными, мягкими, близкими малороссийским, как и в голосе этого коллежского асессора, требующего сейчас «разъяснений». Полтора часа! А должен был бы оборвать на первой же фразе, ибо первой же фразой: «Я буду говорить не о себе», – двадцать седьмой нумер нарушил высочайшую инструкцию, воспрещающую говорить о других. А именно о других-то и говорил Лопатин-старший. О соузниках. О больных. О сходящих с ума. О необходимости лечения, усиленного рациона. Дурново должен был выйти. Нет, слушал. Не посмел выйти. Да, да, надо признаться самому себе: не посмел. И не потому, что Лопатин назвал гнусным лицемерием замену смертной казни бессрочным заточением. И не потому, что этот Лопатин и в Третьем отделении, и потом, когда отделение преобразовали в департамент полиции, пользовался какой-то необщей репутацией, нет, странно, он, Дурново, как бы и помимо воли, как бы безотчетно покорился властному достоинству, естественной непринужденности, свободе этого вечного узника, против фамилии которого в ведомостях, представляемых комендантом, обыкновенно значилось: «Мрачен, молчалив, иногда резок». Дурново знавал всех крупных революционеров, двадцать седьмой был из наикрупнейших, но вся штука в том, что Лопатин не подходил ни под какой калибр, и Дурново покорила его особенная стать.
А младший брат этого шлиссельбуржца ждал «разъяснений».
Дурново отвечал по пунктам: амнистия, несомненно, распространяется на господина Лопатина; господин Лопатин доставлен нынче в Петербург; освобождение из крепости воспоследует в самое непродолжительное время; свидание будет дано. И он стал писать что-то в блокноте с грифом: «Для памяти».
Коллежский асессор, произнеся нечто отдаленно похожее на мерси, пошел к дверям.
– М-да… Вот что, – остановил его Дурново. – Передайте Герману Александровичу мой поклон, я по-прежнему отношусь к нему с уважением.
Дверь затворилась.
А ведь только то и решат, поморщился Дурново, недовольный собою, что ты, брат, либеральничаешь с перепугу. Эх, господа, ведь и вправду жаль сверстников, жизнь положивших на прожектерство.
* * *В Петропавловской крепости бывал я и в молодых летах, и в тех, что называют зрелыми, бываю и теперь. Но памятны мне резко и сильно два посещения.
В послеблокадное лето крепость, вернее, музейная тюрьма Трубецкого бастиона поразила меня какой-то зловещей зияющей пустынностью. Сухой ветер гонял мусор, что-то позвякивало, где-то бренчало. Казалось бы, чего уж тут странного и таинственного, если в тогдашнем Ленинграде даже и в воскресенье на Невском не было толп, там и сям зияла пустота, да и в моей комнатенке на Васильевском острове в ветреную погоду всегда что-то бренчало и позвякивало. Объяснить не умею, но именно пустынность и заброшенность тюрьмы Трубецкого бастиона поразила мое воображение.
Лет тридцать спустя я был там, в уже налаженном музее, был с Еленой Бруновной Лопатиной. Выщербленной каменной лестницей, крутой и узкой, мы поднялись во второй этаж и сразу увидели то, ради чего пришли: почти напротив лестничной площадки была камера номер сорок. Елена Бруновна переступила порог. То был каземат ее деда.
* * *Вот так: «на круги своя» – он опять в Петропавловской крепости. И опять в Трубецком бастионе, где некогда ему объявили о замене смертной казни вечным заточением. А еще раньше, в каких-то немыслимых далях времени, сиживал он в куртинах Екатерининской и Невской. Можно, пожалуй, заняться и проклятущей арифметикой: сколько на воле и сколько в неволе.
Не до геометрии с ее кругами, не до арифметики с ее четными, нечетными: тихая, ноющая боль – он тосковал по шлюшинскому каземату. Опять, как на тамошнем каторжном дворике, опять, как в ту минуту, когда комендант возвестил отъезд в Петербург, испуган был Лопатин внезапным переломом, возвращением в живую жизнь, все счеты с которой давным-давно покончил. Или это только чудилось? Пароходик «Полундра», дрожь палубы, стук машины, широкая и вольная вода (река поначалу казалась как тушь черной, лишь позже глаз различил оттенки), эти желтые огни, трубы, рокот города… Нет, лишь чудилось, что ты изжил все счеты с живой жизнью. Но оттого, что лишь чудилось, нет радости, а есть тихая, ноющая тоска. И тут не униженье, не рабство, тут ужас из ужасов: ты не готов к этой живой жизни. К эшафотной смерти ты был готов, оставалась борьба и трепет плоти, а душой был готов. И тогда, после объявления бессрочной каторги, тогда тоже надо было принять жизнь. Пусть навечно в камне, пусть и не жизнь – медленную смерть. А теперь?
Он ходил по сороковой камере, она не была его, не была своей. Ходил, разговаривая вслух, курил не переставая, мутило, сердце стучало неровно. Под жестяным рефлектором, в колпаке толстого корабельного стекла, горела электрическая лампочка, ее лимонный свет словно вспухал и опадал, вспухал и опадал.
Под утро, когда сквозь замызганное окно сочился, как сукровица, жидкий свет осеннего ненастья, Лопатин задремал, забылся, совсем обессиленный.
И дрогнул как от электрического удара: длинный, худой штаб-офицер стоял посреди камеры. Лопатин вскочил. Не в испуге – в ярости. Он и всегда-то не терпел, когда к нему врывались эдаким хозяйским обыкновением, а тут едва не затрясся от гнева. Но – странно – тотчас и успокоился: будто бы его сильно тряхнуло и все встало по местам.
– Надо приготовиться, – сказал длинный офицер линялым, бесцветным голосом. – Разрешено свидание. Придут брат и сын. Обязан предуведомить… – Заведующий арестантскими помещениями стал излагать какие-то правила, что-то о запретах.
Лопатин видел, как шевелятся губы, щеточка усов, но не слышал, не слышал ни слова. Подполковник Веревкин умолк, на блеклом лице его проступило выражение неслужебное, он проговорил: «Мой вам совет…» Но Лопатин, ухватившись за край столика, намертво прикрепленного к стене, спросил глухо: «Свидание через решетку?»
Он страшился свидания, он про решетку-то только для того, чтобы отказаться от свидания – к черту такие милости. Не брата боялся увидеть – сына. Вот и дома, в Шлюшине, боялся рассматривать его фотографию.
– Согласно инструкции, – ответил Веревкин, – вам, как отбывшему наказание и следующему по назначению к месту жительства, свидание предоставляется в комнате без разделительной решетки. – На малокровном лице подполковника опять мелькнуло выражение неслужебное, нетюремное: – Искренний совет: словно ни-че-го не случилось. Я и родственникам вашим скажу: словно ни-че-го не случилось. Приготовьтесь.
* * *Мой дорогой Всеволод! Боюсь, в душевном смятении я вчера не сумел выяснить тебе тех причин, которые заставляют меня наотрез отказаться от твоего или чьего бы то ни было поручительства, а потому попробую сделать это письменно.
Конечно, со стороны беззубого, полуслепого старика по седьмому десятку, с ревматизмом во всех костях, гипертрофиею сердца, одышкою и т. п. немощами, после всех перенесенных им испытаний, после тюремного заключения, продолжавшегося более 21 года подряд, а в общей сложности более четверти века, – смешно было бы опасаться каких-либо поползновений к новым авантюрам, так что, конечно, не страх скомпрометировать тебя, не оправдав твоего бессрочного поручительства, удерживает меня от принятия твоей братской помощи. Но именно старику, которому не так уж много осталось жить, неприлично покупать эти жалкие остатки жизни ценою унижения в собственных глазах, ценою пожертвования простым человеческим достоинством.
Я всегда платил сам за разбитые мною горшки. Прибавлю, что я желаю видеть в брате – брата, в жандарме или полицейском – надзирателя-полицианта, а соединять брата и надзирателя в одном лице я не согласен. Иное отчасти дело срочное поручительство, обусловливающее срок возвращения для решения дальнейшей участи. Его я был бы готов принять, т. к. это есть срочное обязательство за полученную льготу, а не пожизненная кабала невесть за что и ради чего. Покажи это письмо Бруно и скажи моему милому мальчику, чтобы он не огорчался.
На тюремный столик, где было написано это письмо, Елена Бруновна Лопатина положила гвоздику.
Мы вышли из крепости. Смеркалось, лил дождь, прямой и холодный…
* * *… Лил и тогда дождь.
Гасли окна департаментов, и чиновники разбегались: призрак возмездия гнал за домашние портьеры. Пищала флейта, и стучал барабан, но в воинских ритмах не было святости присяги. Из подпольных арсеналов натекал душный запах ружейного масла. Позавчера и вчера повторяли: «Они будут отправлены в Восточную Сибирь». Но это уже не зависело от Зимнего, а зависело от машинистов и стрелочников – поезда в Сибирь не шли. Потом сказали: «Бессрочное поручительство». И еще через день: «Не о бессрочном речь – именно о срочном».