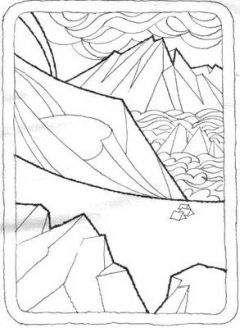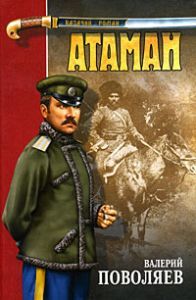Бурсак в седле - Поволяев Валерий Дмитриевич
— Мало ли что оно может требовать! Завтра оно прикажет вам расстрелять меня. Расстреляете?
— Вы обвиняетесь в хищении шестидесяти восьми пудов золота из Хабаровского банка.
Калмыков покраснел, потом зло рубанул рукой пространство: вот она, ложь, идущая по пятам — вес изъятого золота почти удвоен, завтра будет уже не шестьдесят восемь пудов, а сто восемь. Послезавтра — сто пятьдесят восемь, и далее по нарастающей…. Ну и ну!
— Господин генерал, у меня есть к вам предложение, — на лице Ли Мен Гэна неожиданно появилась доверительная улыбка, он легко провел рукой по воздуху, словно бы оглаживал крутое атласное бедро какой-нибудь красивой китаянки, — очень хорошее предложение…
— Какое? — угрюмым тоном пробормотал Калмыков. Он уже почти догадался, что сейчас скажет Ли Мен Гэн — попросит сдать хабаровское золото китайским властям, либо того хуже — поделиться с ним.
— Очень хорошее предложение, — повторил полковник Ли, — вы будете довольны.
— Вряд ли, — пробурчал Калмыков.
— Только не торопитесь говорить «нет», — Ли Мен Гэн в предостерегающем движении поднял пухлую холеную ладонь, попросил доброжелательным тоном: — Пожалуйста!
— Сдайте золото нашему правительству и спокойно отправляйтесь в Харбин.
Калмыков отрицательно покачал головой:
— Нет!
— Подумайте, подумайте, господин генерал…
— Нет!
— Это очень хорошее предложение…
— И думать нечего. Нет!
— Это ваше окончательное решение?
— Окончательное.
— Жаль, — Ли Мен Гэн вздохнул. — Еще раз спрашиваю: это ваше окончательное решение?
— Окончательное и бесповоротное, — Калмыков стремительно шагнул к полковнику и сунул ему под самый нос фигу. — Вот тебе, а не золото! За золото я отчитаюсь перед законным российским правительством. Понятно?
— Очинно жаль, — сказал полковник и, подойдя к двери, открыл ее. Церемонно наклонил голову, будто на званом балу.
Это была команда — в помещение ворвались солдаты. Один из них, с хищным птичьим лицом и окрашенной в рыжий цвет косичкой, перевязанной грязным шнурком, ткнул Калмыкова кулаком в грудь. Удар был сильный — атаман отлетел от китайца метра на три. Это послужило сигналом — солдаты кинулись избивать Калмыкова. Били, когда он уже лежал на полу, согнувшись калачом, и прикрывал голову руками.
— Хо! — подал команду Ли Мен Гэн, и солдаты отступили от атамана Атаман разлепил узкие, заплывшие от ударов глаза и сплюнул на пол кровь.
— Сволочь же ты все-таки, полковник, — произнес он сипло. — И как только земля на себе таких носит? Она давно должна была перевернуться, — атаман смежил опухшие веки и застонал, потом пожевал разбитым ртом: хрен его возьмет этот коварный китаец…
— Советую вам, господин генерал, серьезно подумать над предложением китайских властей, — сказал Ли Мен Гэн и закрыл дверь.
Калмыков остался один. Виски разламывало от боли, от медного гуда внутри все тупо ныло. Он подумал о том, что казакам, оставшимся без него, придется туго.
Если честно, это было единственное, о чем он жалел. Хорошо, что хоть он успел раздать им жалованье.
Казарму, где пребывали казаки, двойным кольцом окружили солдаты Ли Мен Гэна.
— Братцы, на нас, похоже, как на урядника Прохоренко, собираются накинуть пыльный мешок, — прокричал кто-то. — Запирай казарму!
Дверь казармы была немедленно заперта на два засова, в окнах стали видны стволы винтовок и револьверов. Китайцы, конечно, предполагали, что на руках у казаков остались несколько несданных стволов, но не думали, что их наберется так много.
Пожилой майор с тощими усиками, руководивший солдатами, поспешно скомандовал своим подчиненным, чтобы те оттянулись к воротам. Испугался майор. И правильно сделал, что испугался — казаки могли в любую секунду открыть стрельбу — майор понял, что их ничто не остановит: будут нажимать на курки до тех пор, пока не перебьют всех солдат, — подогнал свое несобранное воинство:
— Быстрее, быстрее отсюда!
Солдаты рванули от окон казармы так быстро, что галдящей кучей застряли в воротах. Майор подскочил к ним и несколькими ударами ноги ликвидировал пробку, затем сам со вздохом облегчения вылетел за ограду.
Вдогонку хлобыстнул выстрел — кто-то из нетерпеливых казаков саданул из японской «арисаки» поверх голов.
Нетерпеливого казака выругали матом сразу несколько человек
— Земеля, ты чего, беды хочешь накликать на наши головы?
Этого земеля не хотел, виновато опустил винтовку. Китайские солдаты, руководимые пожилым майором, сбились за воротами в несколько плотных кучек, затопали ногами по жесткому снегу — было холодно.
— Надо подождать, когда подтянется артиллерия, без пушек нам казарму не взять, — решил майор.
Казаки тоже допускали, что китайцы могут подтянуть пушку и садануть прямой наводкой по окнам и времени даром не теряли. Командовать ими взялся невысокий кривоногий подъесаул — старший по званию.
— Братцы, отсюда надо как можно скорее уносить ноги, — встревожено произнес он.
— Куда, господин подъесаул?
— Будем пробиваться на Харбин.
— Это хорошо. Но как же мы без атамана?
— Атаман арестован, нам его не выручить. Нужно самим уносить ноги.
Казарма была соединена с конюшней напрямую, и это было на руку казакам.
Через десять минут широкие двери конюшни с треском распахнулись, и из них вынеслась конная лава — скакало человек шестьдесят, не меньше; китайцы, сбившиеся в кучки за воротами, с испуганными криками бросились врассыпную.
Конники брали ворота с лету, перемахивали через них, будто огромные птицы, и растворялись за изгибом неширокой, заставленной кривоногими домами улочками.
Преследовать конников китайский майор посчитал делом бессмысленным и опасным. Надо было думать, как накинуть сетку на оставшихся казаков.
Придумать что-либо толковое он не успел — из конюшни вынеслась вторая лавина всадников — стремительная, гикающая страшными голосами, и китайские солдаты вновь бросились в разные стороны — попасть под копыта казачьих коней им совсем не хотелось.
Подопечные атамана Калмыкова покидали Фугдин группами и устремились на северо-запад, в Харбин — русскую столицу КВЖД.
Прохоренко сидел в земляной конуре неподалеку от казармы и томился в неизвестности. Впрочем, от будущего он ничего хорошего не ожидал. Услышав казачье гиканье, понял, что происходит. На глазах у него возникли слезы, хотя Прохоренко был сильным человеком, не плакал даже, когда отравленный немецкими газами лежал в госпитале и плевался черными сгустками крови, а здесь в нем словно бы чего-то надломилось, и он заплакал. Покрутил головой, смахнул с глаз слезы.
Если казаки уйдут все, оставят его здесь, то в одиночку ему из этой ямы ни за что не выбраться. Выход у него в таком разве останется один…
Слезы полились у него из глаз сильнее, руки затряслись, заходили ходуном. Через несколько минут он успокоился, вытер ладонями лицо: Прохоренко теперь знал, что надо делать.
Он разделся — скинул с себя форменную шубейку, фасонисто отороченную серым барашковым мехом, сбросил мундир с тусклыми пуговицами, с которых еще в Хабаровске напильником стер двуглавых орлов — державная символика эта уже два с половиной года была не в ходу в России, потом через голову стянул нижнюю рубаху.
Вот она-то, исподняя рубаха, и была ему нужна.
Прохоренко отодрал от подола одну длинную полоску, подергал ее за концы, проверяя на прочность, — материя была крепкой, почти не ношеной еще, и урядник удовлетворенно кивнул, потом отодрал другую полосу, также проверил на прочность. Лицо его разгладилось, помолодело. Он связал полосы друг с другом — получилась длинная лента, довольно прочная. Кряхтя, приподнялся на цыпочках, пропустил конец ленты через кованый железный крюк, вкрученный в выступивший из земли камень для надобностей вполне понятных — сажать на цепь узников, — на другом конце ленты соорудил петлю.