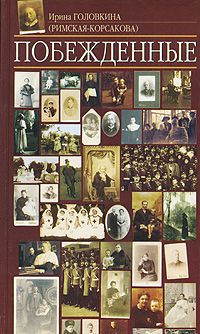Элиза Ожешко - Гибель Иудеи
Когда имя Береники, перебегая из уст в уста, звучало на улицах и площадях предместья, при упоминании его опускали глаза в землю люди в длинных одеждах и тяжелых чалмах, которые также не могли спокойно оставаться в своих домах и при своих занятиях. Это были иудеи, необычайно в этот день взволнованные и оживленные, но толковавшие не о завтрашних играх. Того, о чем они говорили, не знала чернь, высыпавшая на улицы. Они говорили тихо, таинственно и казались встревоженными.
Чуткое ухо, которое бы вслушалось в их разговоры, расслышало бы имя Ионафана. Но никто и не думал подслушивать их. Даже Силас, забыв о мести и вытянув перед трактиром свои босые ноги, играл в чет и нечет; Бабас показывал свою силу, раздавая окружающим оплеухи. Кромия же, сверкая серебряными обручами, украшающими ее смуглую кожу, и пожирая глазами Бабаса, рассказывала, как она была выгнана Фанией. Во всяком другом месте ее бы наказали и отправили работать на кухню, но в доме претора только прогоняли нерадивых слуг. Хозяйка трактира, беззубая Харопия, наливая из глиняной амфоры вино в ее красный кубок, уговаривала ее остаться в трактире. Египтянка со своим гибким телом и змеиными движениями, с карминовыми губами, черными растрепанными волосами и сверкающими серебряными браслетами была бы приманкой для посетителей трактира. Харопия поддакивала ей и все подливала кислого, но крепкого вина.
— Весело мне тут между вами, друзья! — кричала Кромия, — но еще веселее будет нам, когда императорские повара нажарят для нас быков и свиней, а подчашие зальют нам лотки вином менее кислым, нежели твое, Харопия! Игр и пиров, император! Щедр и добр император!
— Жизни и счастия императору, владыке нашему! — воскликнули все, и крик этот далеко разнесся в чистом летнем воздухе.
На террасе домика Менохима, укрытые от взгляда прохожих стеной, сидели двое мужчин. Одним из них был Ионафан.
— Юст! — говорил Ионафан, — моя участь кажется мне достойной зависти по сравнению с твоей. Хотя я и преследуем теми, с которыми боролся до последней минуты, но сердце мое не лжет, и я не вкушаю трапезы у стола отщепенцев, как ты, секретарь Агриппы и слуга гнусной Береники и изменника Иосифа!
Юст еще ниже опустил голову.
— К борьбе с оружием в руках не влекли меня ни мои склонности, ни убеждения, — отвечал он тихо, — потому я и не сопровождал тебя, когда ты отправился в Иудею. Сердцем, однако, я верен отчизне и вере предков наших, и теперь, когда Менохим известил меня о прибытии твоем, я пришел сюда как брат, стосковавшийся по брату. Но я хочу говорить о тех, которых вы называете изменниками. Агриппа, Иосиф и все им подобные полагают, что борьба с могучим Римом — безумие, ведущее маленькую Иудею к гибели. Восстав, вы довели до разрушения столицу и храмы наши.
Насмешливая улыбка показалась на бледных губах Ионафана.
— Уверен ли ты, Юст, что примирение их с Римом говорит об их заботливости о жалком существовании нашего народа? Не ослепило ли их могущество Рима? Не очаровали ли их блеск и наслаждения, которыми они могут насытиться тут вволю? Дворцы их переполнены изображениями людей и животных, столы их ломятся от чужеземных лакомств, римские тоги величаво облачают их тела; Иосиф Флавий принимал богатые дары от наложницы Нерона, Агриппа получил царство Халкиды, отнятое у Береники, которая взамен получила самого Тита…
Ненависть искрилась во впалых глазах Ионафана, сквозь зубы он проговорил:
— Тут они неприкосновенны, они в безопасности, потому что их охраняет вооруженная десница Рима, но там, Юст, там… Там, в Иерусалиме, кровь им подобных заливала мостовые улиц, а из разбитых черепов их брызгал мозг на священные стены, которых они не хотели защищать!..
Юст вздрогнул.
— О Ионафан! — воскликнул он, — что же сделали из тебя те годы, которые протекли со времени нашей разлуки!.. Я знал тебя защищающим обиженных, но гнушающимся кровью и жестокостью… Теперь… ты напоминаешь обитателя пустыни, который в борьбе со львами забыл о человеческих чувствах, в устах которого никогда не звучали слова пророка: «Перекуют мечи свои на плуги, а ягненок спокойно уснет подле льва, и ребенок будет безопасно играть над змеиным гнездом!»…
— Разве ты обитал, Юст, в священной голове пророка и доведался, как далеко в будущее проникал взгляд его, когда он провозглашал свое предсказание? Только Предвечный может знать времена осуществления пророческих видений. Я, из моря крови и пламени выведенный Его дланью знаю, что они еще не наступили. До тех пор, пока справедливость не воцарится в мире, пока человек будет нападать на человека и сильный топтать слабого, меч мести должен преследовать тех, которые, как Агриппа и Иосиф, отрекаются от дела слабых, но справедливых…
— Каждый из людей несет бремя свойственных ему грехов, — печально ответил Юст. — Если у первых трусливость, равнодушие, жажда славы и наслаждения ослабляют усердие к справедливому делу, то вы грешите избытком запальчивости, безумием, ввергающим вас в тщетные муки, сердцем, бесчувственным к жестоким поступкам. Вы называете их изменниками, они величают вас бешеными ревнителями, кровавыми…
— Таковы мы на самом деле! — выпрямляясь, воскликнул Ионафан, в руке его сверкнул нож. — Да, Юст, я ревнитель, который, когда была пора, срезал кровавые гроздья в вертограде Фомском и готов еще срезать.
— Спрячь это, — прошептал Юст, — зачем ты его носишь при себе? Соблазн легко может проникнуть в обезумевшее сердце.
— Не бойся! Твоему Агриппе я никакого вреда не при чиню. День труда был долгим и страшным. Я хочу отдохнуть. Я уйду далеко, в тихом уголке воздвигну стены дома своего, подле супруги буду растить сыновей, чтобы они стали моими наследниками.
Он вдруг замолчал. Черты его, которые при последних словах несколько смягчились, омрачились снова; на улице мимо дома Менохима проходила веселая толпа. Несколько сот мужчин с зелеными венками на головах шагали в такт музыки, смеясь и крича.
— Здоровья и счастья величавому Титу, сыну божественного императора! Здоровья и счастья Беренике, прекрасной нареченной Тита! — доносилось из толпы.
— Слышишь ли ты, Юст? Слышишь ли ты? — порывисто прошептал Ионафан. Имя израильтянки даже эта подлая чернь соединяет с именем того, который нанес смертельный удар нашей отчизне.
— Увы, Тит любит ее, а она… Разве женщина может устоять против мужской красоты, соединенной с высшим в мире достоинством? Тит — первый красавец в Риме и наследник Веспасиана.
— Я видел ее когда-то, — в раздумье проговорил Ионафан. — Я видел ее в Иерусалиме, она вышла на террасу своего дворца вся в пурпуре и в золоте и протягивала к нам сложенные руки, умоляя, чтобы мы разошлись и не навлекали на себя и на всю Иудею мстительной руки римлян. Она была тогда восхитительна, но народ крикнул ей: «Ты внучка Маккавеев, будь подобна им, будь Юдифью! Возьми меч и, одушевленная духом своих предков, предводительствуй над нами в борьбе, как огненный столб вел наших отцов в пустыне!» Это была, Юст, великая минута, это была минута, в которую эта женщина могла стать душой своего народа, силой и славой его и, кто знает, может быть, его спасением… Но она…
— Знаю, — сказал Юст, — вместе со своим братом покинула город…
— Бежала и безопасности своей искала в лагере римлян. Там-то Тит, одной рукой поджимая Иерусалим, другой надевал на ее палец обручальное кольцо… О, Предвечный! неужели ни одна молния не обрушится на этих людей, чтобы порвать этот святотатственный, чудовищный союз…
Страшно в эту минуту выглядел Ионафан, глаза налились кровью, в руке сверкнул снова нож. Юст поспешно схватил его за руку.
— Успокойся! То, чего ты так опасаешься, может быть, еще не случится. Тит давно бы повенчался с Береникой, если бы этому не противился его отец, желающий сыновей своих соединить с знатнейшими римскими фамилиями и с помощью этого усилить блеск неожиданно возвеличенного судьбой своего рода; если бы этому не противился патрициат римский, в соединении будущего императора с восточной женщиной видящий для себя унижение, если бы не противились этому даже философы, имеющие громадное влияние, презирающие Израиль за его веру, которую они считают собранием суеверий невежественного народа. Знаешь ли ты, что случилось со стоиком Герасом, который публично порицал Тита за любовь того к Беренике? Он был казнен на площади. Может быть, еще более ужасная участь за то же самое выпала на долю Дионисия из Пруссии. В цирке, в присутствии ста тысяч собравшегося народа, взывал он к Титу, чтобы он вернулся к покинутой им супруге Марции Фурмилии, а Беренику отослал на ее родину. Дионисия публично бичевали и изгнали из Рима. Но родственники и друзья Марции Фурмилии остались, а оскорбление их и жажда мести подкрепляют врагов императорской власти, которые еще существуют в Риме, во главе которых стоят претор Гельвидий и стоик Музоний.