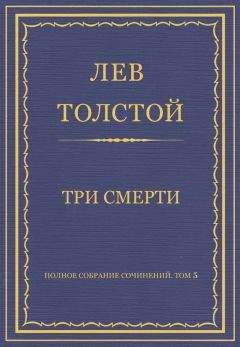Аркадий Макаров - Не взывай к справедливости Господа
«Завтра, завтра в дом Закхея Гость таинственный придёт, и, бледнея и немея, перед ним Закхей падёт. Мытарь смутен, беспокоен, вскликнет в сретенье Его: «Недостоин, недостоин Посещенья Твоего: Гость чудесный, Гость небесный, Ты так светел и лучист! А сердечный дом мой тесен, и неприбран, и нечист! Где же Гостя посажу я? Тут и там сидел порок: тут и там – где не гляжу я – вижу всё себе упрёк… Чем же гостя угощу я? Добрых дел в прошедших днях всё ищу и не сыщу я; весь я в ранах и грехах!» Был ответ: «Не угощенья, не здоровых я ищу; завтра к Чаше исцеленья Я болящих допущу! Завтра собственною кровью, Благодатного Отца, духом мира и любовью весь сойду я к вам в сердца… И душа, хоть вся б истлела в знойном воздухе грехов, Моего вкусивши тела, возродится к жизни вновь!» Так надеждой в душу вея, кто-то будто говорит: «Завтра, завтра Гость Закхея и тебя ведь посетит!». О, приди ж наш Гость священный! С чашей жизненной своей; ждёт грехами отягчённый, новый ждёт Тебя Закхей!» (Фёдор Глинка)
Дом был пуст, как футляр от часов из которого вынули механизм. Невидимые рычажки и колёсики отлаженного механизма обычной супружеской жизни здесь не действовали.
Ход времени в холостяцком быту незаметен, вроде, как и нету его, времени этого.
Ночь-день, день-ночь – сутки прочь!
Кирилл Назаров только теперь ощутил всю никчёмность и неуютность своего бытия, и это чувство так его удручило, что – ну, хоть волком вой!
Он сунул подвернувшуюся откуда-то под руку початую бутылку водки в самый дальний ящик, быстро разделся и, нырнув под тёплое пуховое одеяло, тут же провалился в долгий тяжёлый сон.
Кирилл проснулся быстро, словно вынырнул из омута, и, несмотря на вчерашнее уныние, чувствовал во всём теле пружинистую бодрость. Проскользнул в ванную, открыл на всю мощь кран и встал под ледяные, жёсткие как стальные спицы, струи воды, сдиравшие с него всю коррозию неприглядного быта.
На улице, радуясь новому дню, ослепительно смеялась весна.
Чёрный асфальт на солнце исходил паром, и воробьи, пользуясь теплом и обилием солнца, вздорно голосили – то ли ругались друг с другом, то ли просто так резвились от избытка чувств.
Пуская в разные стороны солнечные зайчики, и разбрызгивая веером талую воду из-под колёс, туда-сюда мчались машины.
Из музыкального училища (опять музыкальное училище!) выпорхнула стайка ярких, как летние бабочки, студенток. Они куда-то спешили, весело перепархивая встречные лужи.
Напротив, за кованной монастырской оградкой, возле открытой настежь калитки стоял невысокий дедок с виду совсем непохожий на нищего, каких здесь всегда бывает множество.
Назаров машинально достал из кармана и сунул старику первопопавшуюся денежку, но к его удивлению тот даже не высвободил руки, чтобы взять щедрое подаяние, и Кирилл снова сунул деньги в карман, с удивлением посмотрев на нищего.
Старик стоял и весело, как показалось Назарову, смотрел на него, заговорщицки подмигивая, как давнему знакомому. Голова его при этом дёргалась, наверное, у бедняги был старческий тик, такое часто бывает в преклонном возрасте. И вдруг до Назарова дошло – так это же двоюродный дядя по матери Колюша, в известное лихолетье раскулаченный, да и высланный куда-то на Север. Вернулся он в Тамбов, насколько помнил Кирилл, потеряв всю семью и подарив великой стране своё здоровье. Прибыл Колюша на родину маленько не в себе.
Мать рассказывала Кириллу о нём, что когда расстреливали у стены Троицкого храма более двадцати человек бондарских священнослужителей, то среди них был и регент этого храма, отец Колюши. А сам Колюша, в то время ещё подросток, из-за угла соседнего дома насмотревшись на эту красную бойню, стал безо всякой причины отрицательно мотать и трясти головой, заговорщицки примаргивая при этом левым глазом.
Колюша, по раскладу Назарова, был родственником девятого замеса от десятого киселя, и никогда, ни по-родственному, ни просто так, не встречался с несчастным Колюшей, да и причины такой не было. Самого Колюшу Кирилл видел последний раз ещё в детстве, будучи с матерью в Тамбове. Тогда они и пришли к нему ночевать. «Повидаться!» – сказала мать, и Колюша встретив их, весело улыбался беззубым ртом и всё радостно тряс головой, постоянно подмигивая Кирюше слезящимся тусклым глазом.
Кирилл до утра не мог сомкнуть глаз, поглядывая с опаской на странного человека, который даже во сне тряс головой и то ли всхлипывал от смеха, то ли горько плакал.
С тех пор Назаров никогда не видел дядю, а всё же не забыл о нём и теперь узнал – надо же! Узнал его и дядя. Он всё также беззубо улыбался, кивал головой и весело подмигивал, как будто знал о двоюродном племяннике, что-то такое, что и постороннему говорить нельзя, и дядя Колюша никогда никому ничего не расскажет, нет!
Кирилл замешкался возле старика, суетливо одёргивая куртку и топчась на одном месте. Он никак не мог сообразить, как ему вести себя со столь странным родственником.
Назаров торопливо нашарил сухую, холодную, как птичья лапка, ладонь Колюши и быстро пожал её.
Старик положил свои слабые руки на плечи Кириллу, подмигивая глазом и бесконечно тряся головой, что-то пытался сказать, но слов не было, только какое-то горловое шипение и бульканье.
Подавив в себе неприятные чувства, схожие с брезгливостью, Назаров не без труда заставил себя улыбнуться и тоже кивнул головой на какое-то восклицание Колюши. Старик полез за пазуху, что-то отыскивая там, и вот, нашарив, вытащил мятый почтовый конверт, с такой же маркой, что и на вчерашнем послании.
В конверте что-то лежало. Судя по всему, цепочка с медальоном.
Колюша костенеющими пальцами достал из конверта тёмную от времени серебряную ладанку на такой же тёмной витой серебряной цепочке.
Ладанка в руках старика покачивалась, как маятник, туда-сюда, подталкивая быстротекущее время.
С лицевой стороны ладанки голубой и белой не тускнеющей эмалью была выполнена миниатюра Христа Спасителя во славе его с подъятыми в благословении перстами.
Назаров, сам не зная почему, медленно по-бычьи наклонил голову, и Колюша с величайшей осторожностью надел священную реликвию на шею крепкого, коренастого Кирилла, у которого был далеко не благочестивый вид. Всё в нём говорило о том, что он вовсе не принадлежит к усердным прихожанам церковной обители, а, напротив – к вольному племени не так давно появившихся в новой России людей случая: наглых, стремительных в поступках и нетерпеливых к жизни.
Рядом с ним странно смотрелся юродивый старичок с воздетыми к тому человеку руками.
Кирилл быстро поднял голову, и холодная струйка с маленьким голубоватым озерцом пролилась под его рубашку прямо на голое тело.
Колюша ласково посмотрел на Кирилла, поднял узкую выбеленную временем ладонь, перекрестил его и сказал на этот раз внятно и с убеждением: «Сын мой! Чти Господа – и укрепишься, и кроме Его не бойся никого».
Назаров, тряхнув лохматой головой, как будто отгоняя от себя недостойное, надоедливое и назойливое, вошёл в храм.
Требовательный и властный голос священника принимавшего исповедь заставил отвечать коротко и внятно: «Грешен! Да, конечно грешен, святой отец! Грешен, грешен и грешен! И неподъёмны грехи мои, и мерзки перед лицом Церкви!».
Вся жизнь Кирилла, непотребная и пошлая, пронеслась, пронеслась и пробежала под неверным светом лампад и тихого церковного пения.
«Вечери Твоея тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя прими; но не бо врагам Твоим повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоём»
3
Причастился Святых Таинств, теперь надо выправлять документы, вытравив из глубин сознания грязь и мирскую скверность…
В органах, получив документы, Назаров спрятал в карман краснокожую книжицу и задумался: идти ли к тому хваткому юристу выправлять лицензию на свой маленький бизнес или погодить.
«Погожу, наверное… Куда спешить? Отдохнуть надо бы… В Сочи, что ли податься?…» – думал он, размашисто шагая по городу.
После посещения храма и принятия Святых Таинств, жизнь его вроде как обнажилась. Словно постыдная девка сняла с себя исподнее на шумной городской площади и предстала перед народом во всей своей похабной и пошлой сущности. Стыдно и больно глядеть на её женские худосочные лядвии.
Что говорить, когда говорить нечего…
Размышляя о себе любимом, он неожиданно понял, что за плечами у него одна звенящая пустота и ничего более. Ничего!
Ему и раньше открывалась эта пустота, но стакан водки с «весёлым народом» заполнял прогал в его судьбе, и снова жизнь представала перед ним не тщедушной похабной девкой, а полнотелой, жадной до ласк бабой. И снова жизненная кутерьма кружила его, затягивая его волю в общий мутный поток событий обыденных и бесцветных.
«Суждены им благие порывы, а свершить, ничего не дано».
Когда-то ему мечталось и пелось, и душа взывала к божественной сущности бытия. И тогда складывались строчки в ритмический рисунок, и получались стихи, пусть и наивные, но честные: