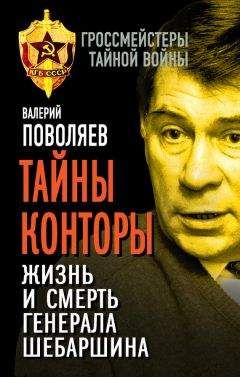Валерий Поволяев - Жизнь и смерть генерала Корнилова
Корпус, который ещё совсем недавно успешно наступал, не выдержал и побежал.
Бежали солдаты галопом, на бегу азартно вскрикивали:
— Так до самого Петрограда дотелепаем, там долбанём по буржуям. Бей буржуев! — Словно эти «буржуи» были виноваты в том, что немцам удалось собрать мощный кулак и врезать по русскому фронту так, что искры несколько суток сыпались из солдатских глаз.
В Петрограде начались беспорядки. Керенский ответил на них своеобразно — снял генерала Гурко с должности командующего фронтом.
На освободившееся место назначил Корнилова.
Корнилов, понимая, что нужны решительные меры — без них армию не спасти, — потребовал от Временного правительства возобновления смертной казни на фронте.
В это время в армии появились комиссары — люди в основном штатские, но с горящими глазами, увлечённые революционными идеями. Комиссары были направлены в роты, батальоны, полки, дивизии... Комиссаром фронта, которым командовал Корнилов, стал знаменитый Борис Савинков[47] — лысоватый, насмешливый, умный, решительный до резкости.
Савинков поддержал командующего фронтом.
— Если солдата, бегущего с вытаращенными от страха глазами, не остановить, он будет бежать до самого Томска, — сказал Савинков. — Если мародёра не угостить пулей, впечатав её в лоб, как кастовое пятно у индийской красавицы, он не только своего раненого товарища ограбит — обдерёт как липку целую армию. Один, в одиночку... Даже фронт раздеть может.
Скрепя сердце, подёргивая раздражённо ртом, Керенский согласился на смертную казнь. Получив по аппарату Бодо разрешение на крайние меры, Корнилов вызвал к себе начальника штаба:
— Мародёров расстреливать на месте! Без всякого суда. Трупы вывешивать на деревьях. Как бельё. Чтобы лучше было видно. Естественно, с надписью, за что расстрелян. Дезертиров, ошивающихся в тылу, также ставить к стенке. Разложение армии началось именно с них — с мародёров и дезертиров.
Вскоре Савинков покинул фронт, получил новое назначение — стал военным министром. Понимая, что его авторитет в армии — нулевой, меньше, чем у «главноуговаривающего», что нужно привлечь на свою сторону опытных военных и их авторитетом, с их помощью давить не только неповинующиеся части, но и давить самого Керенского, Борис Викторович постарался заручиться поддержкой Корнилова.
Поскольку Савинков был симпатичен Корнилову, тот поддержал его. Поддержка эта была настолько сильна, что Керенский, решивший через некоторое время сместить Савинкова, несколько раз смещение это опасливо откладывал.
Савинков сполна отблагодарил Корнилова: когда началось противостояние Корнилова и Керенского, он принял сторону Керенского. Генерал, узнав об этом, поморщился брезгливо, но ничего не сказал.
Позже, уже в 1918 году, когда на Дону шло формирование Добровольческой армии, в Ростове появился поблекший, осунувшийся Савинков и предложил свои услуги, Корнилов решительно отверг их:
— Не нужно!
Савинков приложил к груди кепку, которую перед этим, будто послушный гимназист, сдёрнул с головы, и проговорил с искренним огорчением:
— Жаль!
Позже Корнилов заметил:
— Савинков оказался порядочнее своих коллег... Он, в отличие от них, явился ко мне со своими извинениями... Бог ему судья! Жаль только Россию и то, что эти люди сделали с нею. Это не поддаётся осмыслению. Чтобы исправить всё, понадобятся долгие годы. Плюс миллионы человеческих жизней. В том числе и моя жизнь.
Корнилов как в воду глядел.
Вскоре он получил новое назначение — назначения эти сыпались на него, как грибы из лукошка, сплошным потоком — стал Верховным главнокомандующим, первым человеком в русской армии.
Когда он приехал в Могилёв, в Ставку, ему прямо на вокзале устроили восторженный приём — качали так, что у генерала хрустели кости, как в уличной схватке. Чуть шпоры с сапог не сорвали.
Керенскому в тот же день рассказали, как Ставка встретила Корнилова, — постарались донести в деталях. Про шпоры тоже упомянуть не забыли. Керенский, считавший себя любимцем армии, такой встречей был недоволен. Несколько минут он немо шевелил губами, будто читал какой-то невидимый текст, и текст этот давался ему с трудом, потом щёлкнул пальцами:
— М-да, не на того человека сделал я картёжную ставку, Корнилов — не туз и не король... Его может побить даже дама. И валет может...
Над Зимним дворцом, где обитал Керенский, каждый раз, когда он там появлялся, поднимали флаг. Когда уезжал — опускали. Керенский требовал себе королевских почестей.
Поговаривали о его увлечении «ночными бабочками» и кокаином.
Во всяком случае, в представления о замшелом русском чиновнике с тяжёлым кирпичным задом и загребущей правой рукой-лопатой, способной взять много, он никак не вписывался.
Насчёт дамы с валетом Керенский, конечно, брякнул впустую — он не знал Корнилова, но тем не менее предпочёл выразиться эффектно, сжал губы в старушечью щепоть — ощутил к Корнилову ревность... Неужели в русской армии кто-то может быть популярнее его? Губы у Керенского вновь немо зашевелились, кожа на щеках пожелтела. Он отрицательно качнул головой и произнёс тихо:
— Таких людей нет.
Самыми близкими людьми к Корнилову в эти дни стали генерал-лейтенант Лукомский Александр Сергеевич, начальник штаба Ставки; полковник Голицын — офицер для особых поручений; Завойко — ординарец, сын известного российского адмирала, журналиста с неплохим пером, издателя и очень небедного человека; адъютанты генерала — прапорщик граф Шаповалов, штаб-ротмистры Перепеловский и Корнилов — однофамилец генерала; корнет Хаджиев — командир конвойной сотни...
В Ставку, в Могилёв, перебралась и семья Корнилова — Таисия Владимировна и Наталья с Юрком. Едва Таисия Владимировна появилась в городе, как к ней тут же пристал весёлый ясноглазый котёнок. Повторилось то, что было когда-то в Ташкенте.
Вечером Таисия Владимировна показала котёнка мужу.
— Правда, похож на кошечку, которая прыгнула ко мне в пролётку, когда я приехала в Ташкент? — с улыбкой спросила она.
— Когда это было, — устало произнёс муж, — я того времени уже не помню.
— Ту кошечку мы назвали Ксюшей. Давай назовём так же и эту, а?
— Мне всё равно. Это мальчик или девочка?
— Девочка.
— Тогда вполне может быть Ксюшей.
Таисия Владимировна прижала кошечку к щеке, проговорила умилённо:
— Тёплая.
— Детей, Тата, не отпускай от себя ни на шаг, — строго предупредил жену Корнилов.
— Наташка-то уже — взрослая...
— Всё равно не отпускай. Если бы тыл был безопасным — можно было бы отпускать, но в тылу ныне опаснее, чем на фронте.
— В Петрограде, я слышала, в очередной раз бунтуют рабочие...
— Да. Не хватает им белых булочек, — в голосе Корнилова возникли раздражённые нотки, — нет бы завершить войну... Тогда бунтуйте, сколько хотите. Ан нет! Если мы проиграем войну, то контрибуцию придётся платить такую, что денег не только на булочки не хватит — не будет даже на окаменевшие сухари со ржавой селёдкой.
Через два дня Корнилов увидел, как в старом парке, недалеко от штаба, в сопровождении двух текинцев, прогуливаются Наталья и Юрка. Сын превратился в угрюмого, сосредоточенного подростка, который ходил, опустив голову, словно борец на цирковом ковре, характер у него был отцовский. Корнилов внимательно оглядел детей в окно, и у него сделалось тепло на сердце; на шее, под жёстким воротником кителя, украшенным белым офицерским Георгием, забилась восторженно жилка: он совсем не заметил, как подросли дети. Наташка уже стала настоящей невестой...
Одёрнув китель, Корнилов поспешно сбежал по лестнице — потянуло к детям.
Текинцы, наряженные в тёмные лохматые папахи, при оружии — им было наказано охранять детей главковерха как зеницу ока, — вытянулись. Корнилов скользнул торопливым взглядом по их лицам, скомандовал «Вольно», потом перевёл взгляд на одного из текинцев, поджарого, с седеющими висками — лицо его показалось знакомым.
— Мамат? — неверяще проговорил Корнилов.
— Так точно! — отчеканил тот хрипловатым, просквожённым голосом.
— Мамат, — растроганно повторил Корнилов, — Мамат...
Он шагнул к текинцу, обнял, вгляделся неожиданно повлажневшими глазами в его лицо. Это был тот самый Мамат, с которым Корнилов когда-то переправлялся дождливой зимней ночью через Амударью на афганскую сторону. Сколько лет прошло с той поры...
Корнилов повторил фразу, возникшую у него в мозгу:
— Сколько лет прошло с той поры...
Текинец вскинул голову, глаза у него также сделались влажными.
— Не сосчитать.
— Сосчитать не трудно, Мамат, — всего два десятка лет и будет, но годы эти непросто окинуть взором... Всё теряется в пространстве, во времени, куда ни глянь — всюду даль и наши следы.