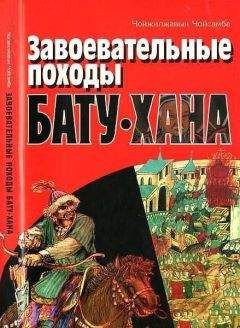Лев Никулин - России верные сыны
Это был небольшой зал с камином и большим столом в центре; у стола стояло кресло премьер-министра, вокруг — обитые темно-синим плюшем стулья с высокими резными спинками. На стенах висели большие, превосходно выполненные карты всех стран света.
Лорд Ливерпуль сел в свое кресло и указал рядом с собой место Ливену, изнывавшему от жары в парадном мундире, в ленте и при всех регалиях. Тот тяжело опустился на неудобный высокий стул. Кэстльри остался стоять у камина, внимательно рассматривая статуэтку на каминной доске. Ему тоже было жарко, он обмахивался большим шелковым платком.
Можайскому пришла в голову странная мысль. «Вот тут, — думал он, — на том самом кресле, где сидит Ливен, еще недавно, как бедный проситель, вздыхая и жалуясь, сидел толстый Людовик в бархатных сапогах, и лорд Ливерпуль и лорд Кэстльри с брезгливым равнодушием слушали его сетования. А теперь этот подагрический старик их усилиями водворен в Тюильрийский дворец и посажен на трон…»
— В прошлое наше свидание я имел честь довести до вашего сведения… — начал Ливен.
Лорд Ливерпуль оглянулся на Кэстльри, и тот, казалось, весь ушедший в свои мысли, оторвался от статуэтки на камине. Он закрыл дверь, ведущую на балкон, и сел по правую руку Ливерпуля. Его большие белые руки, лежавшие на столе, чуть дрожали.
«Ужели в этих руках, — думал Можайский, — политика Англии?»
Ливен снова заговорил. Речь шла все о том же Семеновском полке, который царь желал показать на смотру в Гайд-парке.
— Его величество уверен, что лондонцам доставит удовольствие присутствие на смотру старейшего и храбрейшего полка русской гвардии. Тем самым как бы подчеркивается наше братство по оружию, — храбрейшие русские и британские солдаты пройдут перед его высочеством принцем-регентом и державными его гостями…
Лорд Кэстльри тяжелым и сонным взглядом посмотрел в сторону, и только тогда Можайский заметил согбенную, хмурую фигуру Гамильтона, стоявшего у кресла Ливерпуля.
— Его высочество принц-регент с нетерпением ожидает прибытия императора Александра, прусского короля и их свиты… — без всякого выражения, заученным, ровным тоном сказал лорд Ливерпуль. — Лондонцы ожидают часа, когда высокие наши гости вступят на гостеприимный берег Англии, но… — и он посмотрел на Кэстльри.
— Но его высочество принц-регент не властен менять законы Англии, — вздыхая, произнес Кэстльри.
И, как бы взывая о помощи, оба уставились на Гамильтона.
— Не властен, — глухим голосом заговорил Гамильтон. — Законы Соединенного королевства воспрещают появление иноземных войск на островах. В 1433 ив 1562 году возникали подобные казусы, но мы не можем иначе толковать закон, как воспрещение появления чужеземного, пусть даже союзного, войска на нашей земле, с какой бы целью оно ни прибыло на острова.
Наступило молчание. Ливерпуль с любопытством глядел на Ливена, Кэстльри, по-прежнему поглаживая большие белые руки, смотрел тяжелым и сонным взглядом на Гамильтона.
Ливен встал, и тотчас за ним поднялись Ливерпуль и Кэстльри.
— Мне остается только доложить о нашей беседе его императорскому величеству, — сухо и довольно твердо сказал Ливен. — Не скрою, что ответ ваш доставит огорчение императору.
Лицо лорда Ливерпуля выразило некоторое оживление. Неприятный разговор был окончен.
— Не сомневаюсь, что его величество приятно проведет время в нашей гостеприимной стране. Англичанин на чужбине и англичанин дома — это нечто совершенно разное.
Лицо Ливена приняло странное выражение, — то ли он удивился этому открытию, то ли не понимал, как можно после такой неприятной беседы говорить подобные пустяки.
Гамильтон проводил посла до прихожей.
— Ее императорское высочество все еще путешествует по Шотландии? — осведомился он, хотя отлично знал, что Екатерина Павловна в Эдинбурге и что она в беседе со знаменитым Вальтер Скоттом довольно бестактно напомнила ему цитату из Вольтера о том, что история Англии писана рукой палача.
В карете, когда они остались одни, Ливен вздохнул. Он думал о том, что ему, немолодому человеку и опытному дипломату, пришлось пережить неприятные минуты и что можно было избегнуть этого унижения, если бы не настойчивость и упорство Александра в ничтожных мелочах.
В тот же день курьер повез Александру ответ лорда Ливерпуля и Кэстльри. Ливен знал характер Александра Павловича и, чтобы позолотить пилюлю, сообщил о приготовлениях к пышному приему, о том, что вся Англия с нетерпением ожидает высоких гостей.
Отчасти это была правда. Народ с нетерпением ожидал русских. «Англия могла только пошатнуть колосса, Россия его низвергла», — говорили народы Европы.
Но ни Ливерпуль, ни Кэстльри не слышали голоса народов. Это были министры-придворные; им все еще казалось, что история народов творится в королевском дворце, что Англия — это принц-регент, лорд Ливерпуль, лорд Кэстльри, и все будет так, как хотят в Сент-Джемском дворце.
Была палата пэров и палата общин, великая хартия вольностей, была конституция; они ничего не собирались менять, да и нужно ли было менять, когда все вокруг было продажным, все покупалось за деньги, за титулы, только какой-то опасный чудак лорд Байрон дерзал произносить в палате пэров речь в защиту ноттингемских ткачей. Но были люди в Англии, которые никак не могли понять, почему конституционные министры Англии были опорой злейшей реакции в Европе.
Можайский был уже далеко от Доунинг-стрит, но ему все еще мерещилось лицо, красная шея, стеклянные немигающие глаза лорда Ливерпуля и большие белые руки лорда Кэстльри. Он все еще видел перед собой двух, казалось, всесильных людей, представляющих владычицу морей — Британию.
Могло ли притти в голову Можайскому в то жаркое, летнее утро в Лондоне, что лорд Кэстльри окончит свои дни, перерезав себе горло в Порт-Крее, в Кентском графстве, а лорд Ливерпуль умрет мучительной смертью в припадке безумия? Именно таким был конец этих людей, которые в начале девятнадцатого века держали в своих руках судьбы войны и мира в Европе и Америке.
41
«…Я имел необходимость посетить моего банкира мистера Адамсона. Дом его находится на Ломбард-стрит, поблизости биржи. Живет мистер Адамсон в весьма-скромном доме, ничуть не похожем на чертоги банкиров парижских с их тенистыми каштановыми аллеями, колоннадами и крытым подъездом.
Слуга открыл мне входную дверь, на которой была медная доска и на ней имя моего банкира. Все было здесь скромно, пол покрыт не коврами, а крашеным чистым холстом, в большой комнате, склонившись над толстыми книгами, сидели писцы, и в тишине слышался только скрип их перьев.
Вот, подумал я, торговая храмина, в которой обращаются миллионы, банковые билеты, векселя за подписями купцов всех четырех стран света.
Слуга проводил меня в гостиную во втором этаже, просил обождать несколько минут, — и точно, не прошло и трех минут, как дверь кабинета банкира открылась и вышел молодой человек в светло-сером сюртуке. Я мельком взглянул на него. Кивнув мне, он стал спускаться по лестнице. Тут господин Адамсон пригласил меня войти к нему в кабинет.
Пока банкир рассматривал вексель и рекомендательное письмо нашего посла, я успел осмотреть кабинет одного из королей лондонского Сити. Он был убран просто, но все говорило о вкусе хозяина — кресла, обитые темно-зеленым сафьяном, большой стол черного дерева, красивые бронзовые часы на камине. Две японские, тончайшей работы, вазы стояли в углах на постаментах из черного дерева. Над столом я увидел портреты Питта и Нельсона. У дверей большой стеклянный шкаф, наполненный книгами.
Самому хозяину было не более шестидесяти лет, волосы его поседели, но брови черные, сросшиеся у переносицы, над длинным тонким носом. Он уставил на меня свои серые живые глаза и сказал:
— Жалею, что я не был предуведомлен о вашем приходе… Вы — русский, а только что ушел от меня господин, который давно имеет желание посетить вашу родину. Ему было бы интересно свести знакомство с русским, да еще к тому же принадлежащим к посольству.
Я промолчал, а господин Адамсон, делая пометки на моем векселе, продолжал:
— Имя его, возможно, вам знакомо: это известный наш стихотворец лорд Байрон…
Я невольно вздрогнул, услыхав это славное имя: так вот кто был встреченный мной молодой человек! И как я мог не узнать его…
— Я не имел удовольствия читать его творения, — рассуждал мистер Адамсон, — ибо, кроме произведений великого Мильтона, я никаких стихов не читаю, но наша молодежь от него без ума, и мои племянники бредят поэмой Байрона, не помню ее названия…
— Какая жалость! — воскликнул я. — Почел бы счастьем познакомиться с ним.
![Дмитрий Виконтов - Родиться в Вифлееме [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)