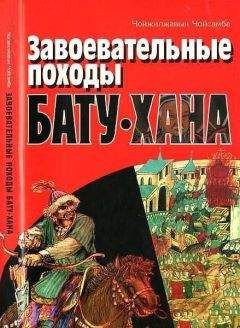Лев Никулин - России верные сыны
Пока шел этот разговор, Можайский с горечью думал о том, что люди, которые были союзниками России в войне против Наполеона, сейчас хотят унизить русских и отнять у них заслуженную славу.
Обед подходил к концу, мужчины остались одни. Семен Романович уехал, сославшись на нездоровье.
Это немного удивило Можайского, потому что Воронцов придавал немалое значение застольным беседам и вообще хорошему обеду. Недаром он поучал молодого дипломата — «Хороший стол помогает узнать, что делается в стране, связанные с этим расходы не только вполне оправданы, но и полезны. За обильным столом примиряются противоречья, раскрываются сердца собеседников». Впрочем, эти же мысли Можайский нашел в известном труде Кальера «О способах вести переговоры с монархами», изданном в Париже в 1716 году.
Языки развязались, и Можайский увидел, что англичане, нисколько не чинясь, много пили, свободно судили о делах политических, не стесняясь называли обидными кличками лорда Ливерпуля и Кэстльри, а сэр Вильсон обозвал Веллингтона упрямым испанским мулом. Про министра колоний говорили, что его можно купить за сходную цену, на что лорд Лаудэрдэль заметил, что любого можно купить за хорошую цену.
Можайскому и раньше приходилось слышать подобные речи за бутылкой вина в Жокей-клубе, но в стенах российского посольства такой разговор показался слишком вольным. Он вспомнил слова сатирического писателя Шеридана: «Дайте им продажную палату лордов, дайте им продажную палату общин, дайте им тирана-монарха, подхалимствующий суд, а мне дайте только свободную прессу, — я не позволю им ни на волос умалить вольность Англии». Но славный английский сатирик был на пороге смерти и до конца дней не имел в своих руках свободной и нелицеприятной прессы. А эти господа имели все то, чего были достойны, — продажные палаты, тирана-монарха и покорный им суд.
Хозяин делал вид, что не придает значения злым шуткам гостей, и оставил их на некоторое время одних. Тут внимание англичан обратилось на Можайского, — он был хоть и молод, но боевой офицер, к нему, видимо, был расположен посол и его супруга. Сэр Роберт Вильсон, стал называть имена своих добрых друзей — русских офицеров гвардии, расспрашивая, где они и в добром ли здоровье. Можайский многих знал, но отвечал осторожно, потому что назвать точно место, где они находились, значило выдать расположение гвардейских полков во Франции. Он заметил, что под видом невинных расспросов эти господа старались узнать, сколько именно полков держит Россия во Франции и в Польше. Его немного смешили эти ухищрения, он привык к ним, — так уже повелось здесь издавна, чуть ли не со времен первого русского посольства ко двору королевы Елизаветы.
Лорд Грей, более надменный и высокомерный, чем другие, интересовался особой князя Репнина, назначенного губернатором в оккупированную Саксонию; лорд Лаудэрдэль обнаруживал познания в артиллерии. Он беспокоился о состоянии русских артиллерийских парков после продолжительной кампании. Можайский говорил охотно, но совсем не о том, о чем его спрашивали; в конце концов разговор свелся к лошадям, собакам, редчайшим винам и их особенностям.
Вдруг сэр Роберт Вильсон, не выпускавший из рук бокала, изобразил на лице ужас и сказал:
— Достопочтенные господа! Что, если в эту минуту Бонэй всходит на корабль, чтобы покинуть навсегда Эльбу и высадиться во Франции?
Все на мгновение замолчали, потом раздался хохот, привлекший внимание дам. «Бонэй» была кличка Бонапарта, которую ему дали английские солдаты. Хохотали над тем, что случилось спустя пять месяцев.
Нетерпение Можайского возрастало, он едва дождался, когда все встали из-за стола. В малой гостиной он увидел Дарью Христофоровну, незнакомую дородную даму и ту, которую он знал под именем Анели Грабовской.
Он подошел к ней, с трудом скрывая волнение.
— Вы чуть-чуть постарели, — сказала она, — впрочем, было от чего постареть, — и она подняла глаза на черную повязку, скрывающую шрам.
— Я долго ждал встречи с вами, — сказал Можайский.
— Не ради меня, конечно, — она оглянулась и увидела, что Дарья Христофоровна увлеклась беседой с дородной дамой.
— Вы можете мне рассказать об участи Екатерины Николаевны? Это очень важно для меня.
— Знаю…
— Она здесь, с вами?
— Нет… Но что вам до нее?
— Леди Анна…
— Зовите меня Анеля, мне все еще нравится мое старое имя. Что вам до милой Катеньки? Бедная! Когда вы встретились в Грабнике, как вы обошлись с ней?
Она говорила это, временами внимательно поглядывая на него, говорила с подчеркнутой небрежностью.
— Вы видите, я знаю все…
— Зачем вы так говорите со мной? Разве я стал бы из пустого любопытства спрашивать о ней?
— Почему бы нет? Соотечественница, добрая знакомая дней юности. Почему бы не спросить о ее судьбе?
— Где же она?
— В России.
— В России? — Он мог всего ожидать, кроме этой вести.
— Она в Васенках. Разве вы не знали? — с недоверием спросила она.
— Как я мог знать об этом? Три месяца я был между жизнью и смертью.
— Я это знаю. Мы обе были у вас в госпитале во Франкфурте.
Ее слегка испугало выражение его лица. Это было смятение, изумление и скорбь. Но тотчас лицо его озарилось радостью — Катенька не покидала его на пороге смерти. Виденье не было галлюцинацией.
— Катенька вернулась в Россию. Скончалась ее тетка, и ей по завещанию достался хуторок близ Васенок. И она вернулась туда.
— Там я увидел ее в первый раз…
— Тем печальнее для нее воспоминания.
Она оглянулась на гостей. Мужчины усаживались за карточный стол, Дарья Христофоровна рассказывала о путешествии в Шотландию сестры императора:
— …Вечером ее высочество приветствовали горные кланы. Ее высочество увидела пляску с мечами при свете факелов, под звуки волынок… Ее высочество была тронута гостеприимством этих детей гор…
— Мы еще встретимся, — сказала Анеля, — и поговорим обо всем… Вы не будете скучать у меня. Мои друзья шутя называют мой дом «салоном мадам Жоффрен». Но увы, вы не увидите у меня современного философа и не услышите сочинения, подобного его шедевру «О разуме»… Иной век, иные люди… — и она указала глазами на жирный затылок сэра Кларка, сидевшего за карточным столом. — Правда ли, что в свите императора Александра в Лондоне будет князь Чарторыйский? Видите, я все еще думаю о польских делах. Здесь, в австрийском посольстве, очень обеспокоены приездом Чарторыйского… Говорят, что Меттерних из-за этого не едет в Лондон.
— Если князь Адам приедет, то только как генерал-адъютант русского императора.
— Значит, он не будет представлять Польшу?
Начался обычный разговор, которого так не хотел Можайский.
Он решил проститься с хозяйкой, Доротеей Христофоровной, и уехать, сославшись на спешные дела — нынче был почтовый день, но вдруг услышал дребезжащий голос в гостиной:
— Если бы вернулись времена инквизиции — он заслужил бы костер. А книгу его следовало бы сжечь, она должна быть сожжена рукой палача!
— Вы можете швырнуть ее в камин, как сделал я.
— Где же предел бесстыдному вольнодумству?
Можайский заглянул в гостиную и увидел сэра Чарльза Кларка. Он стоял, сжимая кулаки, его желтое лицо покраснело от волнения, черные, обычно полузакрытые глаза горели злым огнем.
— Вы говорите о «Корсаре»? — отложив карты, спросила дородная и красивая дама, — я не нашла в этой поэме ничего, кроме забавной любовной истории и прелестных пейзажей.
— Произведение развращенного ума! Безнравственные и опасные стихи! — послышался гнусавый голос из угла.
Лорд Грей отложил карты и сказал сухо и внушительно:
— Лорд Байрон воспользовался этой книгой, чтобы нанести оскорбление главе государства.
— Но принц принял эту выходку спокойно…
— Он слишком высоко стоит, наш принц-регент, чтобы его задели брызги ядовитых чернил.
Эти слова произнес сэр Роберт Вильсон.
Наступило молчание.
— Мне кажется… — вырвалось у Можайского, и все взоры вдруг обратились к нему. Всем показалось удивительным, что молодой человек осмелился высказать свою мысль, какой бы она ни была, — мне кажется, что это небольшое стихотворение не может бросить тень на поэму «Корсар» и другие прекрасные произведения великого британского поэта.
— Вы думаете? — сказала Доротея Христофоровна и бросила изумленный взгляд в сторону Можайского. — Лорд Байрон сам называет свои эпиграммы ручными гранатами… все знают, в кого он метил. Можно себе представить, как примет эти восемь строк ирландская чернь.
Сэр Чарльз Кларк повернулся к Можайскому и смерил его ироническим взглядом:
— «Великий британский поэт»… Бог мой, в какие презренные уста вложил ты дар песен!
![Дмитрий Виконтов - Родиться в Вифлееме [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)