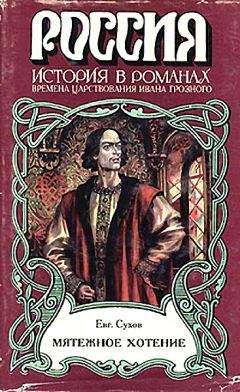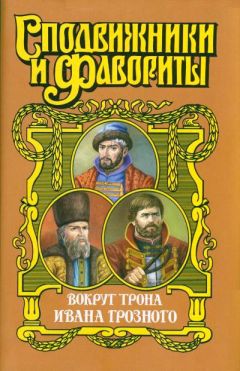Всеволод Иванов - Черные люди
За ними потянулись в Москву на богатые корма царевичи сибирские, жили в Китай-городе царевыми захребетниками, царя под ручки важивали для величанья. Почет, — царевичи ведут!
Пышно встречала царя Теймураза Москва. На Ивановской площади, промеж соборов, перед царевым Верхом да патриаршьей палатой, стеной стояли стрельцы. Красная площадь полна, народ ходит взводнем, давит друг друга, ребята пищат, барабаны бьют, колоколы звонят, пыль столбом.
И едет площадью медленно на черном жеребце в кованой сбруе, под седлом барсова шкура, сам в серебряном доспехе и в шлеме витязь величественный, старый, серебряноусый, чернобровый, красивый, как полная луна, — царь Теймураз. А за царем на пляшущих конях свита, один к одному все красавцы молодые, а старые — горбоносые, седоусые, с огненными взорами — еще краше. Мужики аж смеются, а бабы да девки кисейными рукавами лица закрывают— до чего все хороши! А за царем за Теймуразом подарки везут: кони под коврами, слуги, как тополи стройные, сундуки чинаровые несут, а что в сундуках — не видать. Едет царь грузинский из Спасских ворот — и прямо в Грановитую палату проезжает. Как так? Царь-то нашей веры, православный, да не помолившись в Успенском соборе?..
Почему?
И московские люди переглядываются, глаза прячут, глаза щурят, бородами поводят… Да и патриарха не видать.
Не доехал царь до крыльца — закричали царские пристава, руками замахали: «Стой!»
Царь Теймураз да его люди, грузины, спешились, коноводам отдали коней, по красному сукну идут к Красному крыльцу. На крыльце бояре в шубах, в шапках высоких, по ступеням рынды в белых кафтанах, в горностаевых шапках, с серебряны топоры, жильцы подарки напоказ встречи держат — шубу черных соболей да шапку, кланяются. Идут гости по лестнице, гул кругом, из Святых сеней видно — царь стоит, встречает, горит как на солнце на нем ферезея, объярь — по серебряной земле травы золотые, испод — соболий зипун, тафта белая, без обнизи, шапка — бархат рытый, шафранный цвет, с запонкой-самоцветом, да посох индийский, с каменьем.
Народ толпится, глядит, в народе истцы из Тайного приказа щуками ныряют: приказано им строго слушать, каких не будет ли слов воровских. Патриаршьи люди тоже тут мечутся: приказал и им патриарх глядеть и доносить точно, по статьям, что и как у царя деется, как это царь грузинского царя встречает, на пир зовет, а патриарха на пир тот не позвали… И мечется в толпе патриарший дворянин Образцов Дмитрий Васильич, косится на окошки патриаршьих палат: ахти, да сам патриарх из окошка смотрит… Рванулся тут с усердием Образцов, да наткнулся на окольничьего Хитрово Богдана Матвеича, бобровую бороду, — тот палкой машет направо-налево, охрип, кричавши:
— Путь, путь давай царю!
И ударил Хитрово Образцова палкой в лоб:
— Путь, тебе говорят! Куды?!
— Богдан Матвеич! За что? Я же за делом! Я патриарший! — кричит Образцов.
— Чего хвалишься! — крикнул Хитрово и опять стукнул Образцова по голове палкой. — Не хвались!
Образцов заплакал от обиды: не его обидели — патриарха Великого государя стукнули! Кинулся Образцов в патриаршьи палаты жаловаться.
Патриарх выслушал все, сжав губы, грозя очами, встал, шумя шелковыми воскрылиями, — облачен он был, ждал он: вот-вот позовут к царю, — сел к столу, трещит лебединое перо, брызжет чернилом, пишет царю посланье, что он-де, патриарх, в обиде.
Побежал патриарший жилец, вскоре же ответ несет:
«Сыщу на виноватом и сам с тобой повижусь в скором времени!» — отвечает царь.
Царский пир так и отошел без патриарха. Темен, как туча, гневен патриарх. Меж царевым Верхом и патриаршьими палатами людишки шмыгают, вести, слухи разносят, сплетки плетут. Что деется — никто толком не знает, а только видят все явно и мигают друг другу, что-де подошел конец «святой двоице», нет больше двух друзей неразлучимых, обоих Великих государей, — видно, дела их разлучили, врозь развели…
А тут близко подошло 8 июля — праздник иконы божьей матери Казанской. В Казанском соборе на Красной площади, у Воскресенских ворот, праздник большой, царь завсегда туда к службам жаловал. Народу собралось множество, глядят, что будет. Патриарх тоже тут, ждет…
Не пришел царь. Прислал Ромодановского князя сказать:
— Не будет царь!
— Пошто гневен на меня государь? — спросил Никон.
Кругом народ, слушают.
— Ты чина царского не знаешь! — говорил спальник-князь. — Пишешься ты, что ты-де Великий государь… Какой же ты есть Великий государь?
— Как же так? — возражал Никон. — Да не я же сам это выдумал! У меня вот и грамоты царские на то есть, царского его величества рукой писаны…
— Не понимаешь ты, — говорил Ромодановский. — Государь тебе лишь почет оказывал. А отныне ты Великим государем не пишись и не зовись. Так тебя царь почитать боле не будет…
Шел патриарх к своим палатам из Успенского собору — сердце жгло от обиды, от ярости. Или все рушится? Тогда, давно, в душную лунную ночь в Новоспасском монастыре, к нему прискакал ведь тот же боярин Хитрово от царя с вестью, что-де преставился Новгородский митрополит Афанасий. Радость-то какая! Путь свободен — твори рукой божье дело на земле, как Филипп-митрополит делывал… Имей власть не токмо благословлять, а и проклинать да карать! В Новгороде бунтовщиков проклял — чуть его тогда гилёвщики не убили. И он, Никон, потом митрополита Филиппа мощи в Москву привез. В Успенском соборе поставил… А что выходит? Государство все сильней, а народ все бунташней.
Перед Никоном в его палате стоит все тот же образ Христа-царя, завсегда он с ним. Грозен лик Христа, брови сдвинуты, шапка золотая с каменьем горит. «Или нет уж у божьего сына силы карать грешников? Да ежели грешников не казнить, с ними и сладу не будет! Мы с царем что сделали — Польшу повоевали… Всю Литву да Белую да Малую Русию взяли! А ныне я и не Великий государь? Да кто ж я? Тих, тих государь, а дело божье он губит! Против бога пошел, возбунтовался царь!»
В дверь постучали, тихий голос проговорил:
— Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас!
— Аминь! — хрипло отозвался патриарх.
Вошел патриарший келейник Аника, чистый, волосы приглажены, маслены, блестят, щеки круглые, нос длинный, глазки умиленные. Вошел, повалился в поклоне, смотрит с полу, каков патриарх.
Тучей сидит патриарх, щеки в пятнах, бороду в грудь упер, глаза мутны…
— Владыка святой! Ночь прошла! К обедне пора!
— Иду! — вздохнул патриарх. Заговорил медленно. — Вот что скажу! Ныне оставлю я престол мой. Не беру больше греха на душу!
— Владыко святый! Что глаголеши?
— Можно ли царю верить? Не давал ли царь клятвы на гробе Филиппа-митрополита во всем меня слушать? Клятвопреступник он, царь! Бунтовщик!
— Владыко! — лепетал в страхе келейник.
— Ну и уйду! Что я? Монах! Чего мне надо? Ничего! Беги сейчас на торг, Аника, купи мне палку поповскую простую… Посоха патриаршьего не приемлю! Иди борзо!
Келейник ужом скользнул за дверь, на которой изображен был охраняющий архангел с пылающим мечом, выскочил потный, глаза испуганные, огляделся.
Навстречу, крестясь и кланяясь направо и налево, шел, спешил боярин Зюзин. Келейник бросился к нему, патриархову дружку, зашептал ему в ухо страшные новости.
Оттолкнул боярин Анику, шагнул к патриаршьей палате, рванул дверь с архангелом.
Патриарх сидел в тихом образе, без клобука, свесил голову, волосы падали на грудь, руки опустил…
— Владыко святый, что творишь? — шептал ему боярин. — Себя губишь? Землю губишь! Али престол покинуть задумал? Кому ж все прикажешь?
— Ему! Государю! — тихо ответил Никон.
— А государя кому прикажешь? Боярам, что ли? Воеводам?
— Отряхаю прах от ног моих. Властью меня вы корите— что я могу сделать? Сан сложу с себя!
Ударил колокол.
— Время идти к обедне… В Успенский собор! Там все скажу народу. Пусть народ судит!
— Народ! — шептал Зюзин, и красные губы блестели, брызгали слюной, шевелились червями в бороде. — Чего знает народ? Вести народ нужно, а не искушать!
Никон поднялся, надел белый клобук с алмазами. Боярин стукнул об пол посохом:
— Владыко, не гневи государя! Захочешь вернуться вспять — поздно будет!
Боярин Зюзин так и остался стоять в келье, а патриарх, сопровождаемый иподиаконами, шествовал уже в Успенский собор.
Народу набралось что пчел в улье, собор полон, на паперти народ, на площади народ, — царя ждали, а царя не было. Обедня отходила, вдруг после причастья загремели церковные двери: их запирали наглухо по приказу патриарха.
— Никого не выпускать! Буду говорить поученье! — сказал он.
Патриарх чёл поученье Ивана Златоуста, укоряющее ленивых пастырей.
— Вот и я таким же стал, — заговорил патриарх. — Ленив я! Не гожусь я, видно, в патриархи! Окоростовел я? Обовшивел! Все по лености своей… И вы все окоростовели и обовшивели. Не учу я вас! А сколько я про себя наслушался: и тем я нехорош, и этим, и иконы ломаю да жгу, и еретик-де я, и волк злой… Вот книги новые установил, — камнями, сказывают, меня бить хотят. Ну что ж! Бейте меня, православные, побивайте, да знайте — не патриарх я вам больше!