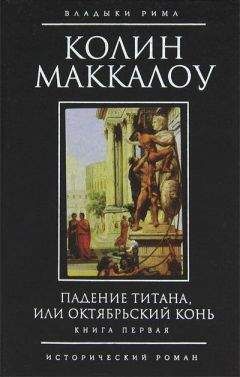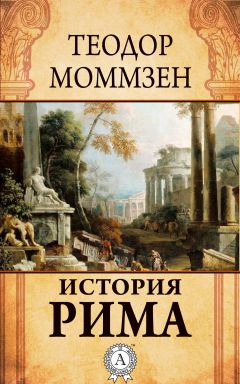Михайло Старицкий - Буря
Перешедши с большим трудом речонку, всадники остановились на берегу.
— Что это? Мне кажется, к нам мчится какой–то всадник, — прикрыл Потоцкий рукою глаза, вглядываясь в какую- то смутную точку, быстро летящую к ним.
— Клянусь палашом, правда! Это из наших разведчиков! — поравнялся с Потоцким Чарнецкий.
Вся свита всполошилась.
— Из драгун?
— Нет. Из коронных жолнеров.
— Татарин!
— На двести злотых — козак!
Раздались кругом тревожные восклицания.
Между тем точка все росла и расширялась. Вот уже обрисовались очертания лошади и всадника. Вот уже вырисовался его убор, его отчаянно машущие руки; вот стало приметно и лицо, словно встревоженное, словно испуганное, с выражением чего–то страшного и решительного.
— Да это Чечель! Он бледен, словно его догоняют все полчища сатаны! — вскрикнул Чарнецкий, закусывая ус. — Потонули, что ли, все рейстровые, ведьмы им в глотки? — попробовал он засмеяться.
Но никто не поддержал ни его проклятий, ни смеха: все с каким–то болезненным напряжением поджидали гонца. Вот он приблизился и, осадивши взмыленного, шатающегося коня, произнес задыхающимся голосом:
— Пане гетмане! Неприятель — за мною… отаборился… ждет!
Словно ветер, пролетел не то вздох, не то какое–то восклицание среди всей свиты. — Vivat! воскликнул в восторге молодой вождь. — Панове полковники, есаулы, ротмистры, — обратился он к свите, — скачите к полкам своим, пусть переправляются скорее и строятся к атаке! Да принесут еще эти прощальные лучи известие богу о нашей победе!
Поскакали более горячие и завзятые начальники к своим частям, а более степенные, украшенные пробивающимся на висках морозом, нерешительно повернули коней и в недоумении направили их тихо через ручей.
— Пышный мой пане, — наклонился Чарнецкий к загоревшемуся неизведанною еще страстью Потоцкому, — сегодня начинать атаку поздно, а с наличными силами даже опасно.
— Почему?
— Разорвать козачий табор без сильного артиллерийского огня невозможно, а перевезти нашу тяжелую армату через эту вязкую тину немыслимо без фашин и загаты.
— Но наши гусары? — обернулся резко Потоцкий. — Они своими всесокрушающими копьями и неудержимым стремлением разорвут и фалангу Филиппа{102}.
— Совершенно верно за фалангу Филиппа, но не за табор козачий.
— Как? Полковник сравнивает козаков с могучими воинами древней Греции, ставит выше их? — даже отпрянул в изумлении молодой рыцарь.
— Я сравнивал не строй, а способ защиты, — продолжал сдержанно, но с достоинством Чарнецкий. — Ясновельможный пан, конечно, знает эти подвижные козацкие крепости, но не брал их еще никогда приступом, а мне уж это случалось не раз. Ведь они иногда устанавливают даже в десять рядов свои широкие, обитые железом и скованные цепями колесо к колесу, возы! Как могут прорвать кони эту неразрывную десятисаженную стену? Они напарываются на торчащие, как пики, оглобли, а в это время сидящие между возов козаки палят в гусар из мушкетов. О, промахи для них редки, а гусарские пики не достигают до козаков! Так вот, и не угодно ли подойти к этой Трое{103} пехотой или перескочить ее кавалерией? Нужно иметь или крылатых пегасов[79], или строить туры да подвижные башни.
— По словам пана, — улыбнулся недоверчиво и слегка насмешливо юный региментарь, — это нечто даже недоступное воображению; но мне интересно самому убедиться в его неприступности…
И, приподняв слегка свой кованный из серебра шлем с золотою чешуей, спадающей на шею, с гребнем белых страусовых перьев, он дал шпоры коню и понесся стрелою в окрашенную алою мглой даль.
Вспыхнувший от насмешки Чарнецкий грозно сжал брови, но также рванул с места коня; за ним понесся пан ротмистр с некоторыми из ближайшей свиты.
Едва Потоцкий вынесся на небольшую возвышенность, тянувшуюся по правому берегу протока, как перед глазами его раскинулась величественная картина. Среди обширной глади чернел гигантским четырехугольником козацкий лагерь, обрамленный широкою, более светлою каймой; по углам этой рамы блестели, словно украшения, козацкие пушки. Вдоль каймы тянулись в три ряда сверкающие точки.
— Их гораздо больше, чем я предполагал, — подскакал Чарнецкий к Потоцкому, остановившемуся неподвижно перед этой картиной. — Взгляни, ясный пане, какой громадный квадрат!
— Да, в лагере будет, пожалуй, до десяти тысяч, — добавил с уверенностью и ротмистр.
— Всего только по два пса на льва! — пожал презрительно плечами Потоцкий.
— В поле их и десять на одного гусара мало, но за этой стеной…
— Да, их там не достанешь ни копьем, ни палашом, ни кривулей, — заметил серьезно пан ротмистр, — да и бьются они молодцом, славно!
Потоцкий молчал и кусал себе в досаде усы.
— Вот негодяи! — прошептал сквозь зубы молодой есаул, перебирая плечами от резкого, своевольно охватившего его тело морозца. — Ощетинились, словно кабаны, да и поджидают, как бы запустить нам в бок клыки…
— Ощетинились! — сверкнул глазами ротмистр. — Да ты взгляни, пане, как ощетинились? Думаешь, если бы нам удалось даже прорвать их возы, дрогнули б они, разбежались? Все бы до единого полегли, а не подались бы назад ни на шаг! Да! Знаю я их!
У есаула, несмотря на его усилия, пробилась еще явственнее непослушная дрожь.
Потоцкий не мог устоять на месте от охватившего его задора и понесся дальше к козацким рядам; за ним погнались Чарнецкий и ротмистр; остальная свита поскакала только для вида, стараясь держаться в стороне.
— На бога, яснейший пане! — кричал Чарнецкий. — Не слишком приближайся к собакам: эти шельмы целятся метко. Марс поощряет отважных, но безумных карает… Какая- нибудь шальная пуля или стрела…
— Мужество ясновельможного пана поразительно, — вскрикнул с восторгом ротмистр, — но жизнь твоя дорога нам!
— А мне доблесть и долг дороже ее! — бросил запальчиво своим советчикам юноша и осадил коня, только прискакавши почти на выстрел к лагерю.
Теперь лагерь растянулся перед ним еще шире. Грозный четырехугольник сбитых широкою рамой возов представлял действительно необоримое препятствие, а за ним внутри чернели тяжелыми темными массами готовые к бою запорожские потуги.
Торжественно, стройно стояли козаки, не слышалось среди них ни крика, ни насмешки, ни боевого возгласа; освещенные последним отблеском зашедшего солнца, они казались какими- то мрачными бронзовыми изваяниями, сурово поджидавшими к себе на грудь недобрых гостей. Все было тихо и неподвижно в козацком лагере, и от этой мрачной тишины и от угрюмых теней, уже покрывавших весь табор темным пологом, эта затаившаяся масса казалась еще непреклоннее, еще грознее.
Охваченные сильным впечатлением, всадники также молчали. Вдруг в тылу их раздался звук труб и литавр. Потоцкий быстро оглянулся и увидел, что войска его переходят уже через ручей{104}, помешавший ему упиться немедленно восторгом атаки.
— Поспешим, ясный пане, — обратился к нему Чарнецкий, — вижу, что уже строятся наши полки.
— Только легкая кавалерия, если мне не изменяют мои старые очи, — поправил ротмистр.
У Потоцкого снова было вспыхнула надежда рискнуть и ударить в это укрепление страшным натиском гусарских пик… но где же они, эти славные гусары и драгуны? И Потоцкий стремительно понесся назад к своим строящимся хоругвям.
В то время, когда Потоцкий доскакал, легкая кавалерия стояла уже в строю с распущенными знаменами и встретила своего полководца воинственным криком: «До зброи!».
LVIII
Центр занимали польские козаки, одетые в жупаны, в высоких барашковых шапках с выпускными красными верхами, вооруженные саблями да легкими пиками; на правом фланге стояли польские татары в чекменях, низких шапочках, с кривулями и сагайдаками за спиной; на левом фланге были польские пятигорцы в черкесках, папахах с шашками да рушницами.
— А где же мои гусары? — спросил у Шемберга гетман.
— Не могли переправиться, ваша ясновельможность, через эту желтую топь; едва–едва переправилась легкая кавалерия и то разгрузила на огромное пространство это болото. Драгуны двинулись и начали вязнуть своими тяжелыми конями по брюхо, а гусары так с первых шагов загрузли… засосались…
— Гром и молния! — вскрикнул взволнованный гетман. — И эта речонка может служить препятствием к бою? Чтоб ночью были устроены гати, — возвысил он голос, — а к рассвету чтобы здесь уже стояла моя артиллерия и развевались все хоругви!
— Все, что возможно, будет исполнено, — замялся почтительно Шемберг, — но фашин нет, надо искать верболоза и лозняку.
— Проклятие! — вскрикнул Потоцкий.
— Но пусть не печалится ясновельможный: все уладим, добудем… а ничтожное промедление сослужит нам пользу… подойдут полки Барабаша.