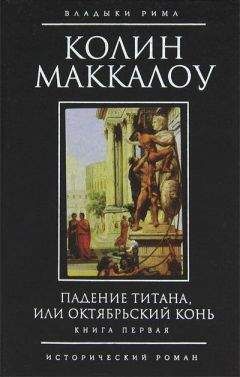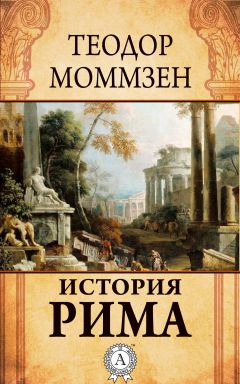Михайло Старицкий - Буря
Глухая ночь. По темному небу несутся черные облака, клубятся, набегают друг на друга и заволакивают все мрачною пеленой. Вдали на рубеже горизонта вспыхивают по временам бледные огоньки, словно небо мигает; блеснет, осветит на мгновенье клубящийся полог, а потом и потопит все в непроглядной тьме. Вот–вот брызнет дождь, даже пахнет им, но брызг нет, лишь ветер нагибает лозы да тростник на острове Тясмина, шумит в густой листве обступивших его верб. При отблеске зарницы видно, что у каждой вербы стоит по одному и по два рейстровика, что они окружают этот островок тесным кольцом. Фигуры стоят неподвижно, безмолвно, словно тени выходцев из могил. За вербами у двух протоков, извивающихся между очеретом и составляющих единственный путь к этому тайнику, стоят знакомые нам Дженджелей и Ганджа и прислушиваются с напряжением к шуму ветра, не почудится ли в нем плеска волны. Стоят они окаменевшими, неподвижными фигурами. Время тянется медленно, тоскливо; небо становится еще черней; ветер гудит однообразно и дико.
Но вот послышался треск очерета, легкий удар весла; что–то скользнуло в протоке и тихо причалило к берегу.
— Кто? — спросил Дженджелей, держа в руках пистолет со взведенным курком.
— Черная рада{97}, — ответили подъехавшие в челне.
— За что?
— За крест и волю.
Тени вышли из челнока, запрятали его в тростник, а сами проскользнули на остров.
За первым челном последовал другой, третий, четвертый… На обоих протоках опрашивали прибывающих и пропускали на остров; вскоре он весь почти переполнился прибывающими гостями: фигуры входили, протеснились молча в толпу и стояли, не обращаясь друг к другу ни единым словом. Наконец и Ганджа, и Дженджелей, сообразив, что все уже съехались, оставили у челнов одного вартового, а сами вошли тоже в таинственный круг собравшихся здесь в полночь товарищей.
Дженджелей взобрался на пень и, подняв свой шлык, обратился к собранию громким голосом:
— Почтенная черная рада, позвольте речь держать?
— Говори, рады слушать! — отозвалась глухо толпа и, всколыхнувшись, сжалась еще потеснее.
— Шлет вам, братья, привет гетман наш кровный, батько Богдан Хмельницкий, поставленный богом и всем низовым козачеством на защиту нашей веры, наших былых прав и вольностей давних.
— Благодарим бога за ласку, а батька Хмеля за витанье, — ответили дружнее и оживленнее съехавшиеся рейстровики.
— Братья родные, запроданные своими перевертнями, своими обляшками в неволю, ограбленные, приниженные нашими гонителями, нашими напастниками! — поднял Дженджелей голос, взволнованный и дрожащий от напряжения. — Бог нам дал душу, чтобы мы боронили ее от греха, а есть ли на свете более тяжкий грех, как продать свою веру? Есть ли страшнее, пекельнее дело, как надругаться над матерью, поднять руку на братьев? Прокляты ли мы на земле? Выродки ли мы последние во всей твари, что не станем защищать своих жен и детей, своих хат, своих храмов? Ведь всякий зверь боронит свое логовище от врага… Что зверь? Птица божья, безоружная, невинная ласточка, и та бьется с иволгой за детей, нападает с сестрами дружно на коршуна и отгоняет его от своего гнезда. Что вольная птица? Муравей, на что уже крохотная тварь, и тот со своим товарыством отстаивает до последнего дыхания свои кубла и отваживает в десять раз сильнейшего врага. Неужто же мы хуже этой последней комашки? Неужто мы, как придохлые псы, не станем и обороняться от ката? Неужто мы обнажим еще наши клинки на братьев своих, на защитников наших? Да провались тогда под нами земля, поглоти нас пекло на самое дно! Пусть там и черти, и гады, и всякая нечистая сила терзают нас неслыханными, бесовскими муками до конца и за конец света!
— Не быть такому греху! — крикнул первый Нос.
— Не быть, не быть! Не проклятые мы! Не христопродавцы! — завопили все и заволновались.
— Мы идем за веру, за козачество и за весь народ русский! — махал знаменем Ганджа. — Силы наши немалые: позади нас идет Тугай–бей, мурза татарский, известный богатырь ногайской орды. За чем же лучше вам стоять — за костелами или за церквами божьими? Короне ли польской пособлять станете, что заплатит вам неволей, или своей матери Украйне?
— Украйне! — вырвался грозный крик и, смешавшись со стоном ветра, покатился эхом по Тясмину.
— Мы всею хоругвью своей поклялись и за себя, и за вас, — воскликнул зычным голосом Нос, — стать под стяги нашего гетмана Богдана, поклялись лечь костьми вместе с братьями за веру и за край наш родной, так не подведите же вы нас в клятве!
— Не подведем! Не бойтесь! Все клянемся! — отозвалось большинство горячо и подняло вверх руки.
Некоторые же позамялись.
— А как же будет с нашею первою присягой, что дали мы своей старшине?
— Какой такой своей старшине? Нет у нас своей старшины! Старшина у нас — кодло ворожье, ироды, гады пекельные! — посыпались со всех сторон разъяренные отзывы.
— Держать клятву таким аспидам — грех! Мы ломаем ее и даем вольную клятву Богдану! — завопили все дружно и бурно.
— Долой старшину! — прорезал общий гвалт чей–то взволнованный молодой голос. — Этот клятый обляшек Барабаш повесил сегодня моего брата! Смерть мучителю!
— Погибель, погибель! — завопили дикие голоса. — Он было украл и наши привилеи! Смерть ему!
— Смерть и Пеште–иуде, — выделился снова чей–то хриплый голос, — он сам задавил сегодня моего товарища, друга!
— Смерть всем до единого! Погибель и ляхам, и перевертням, и немцам!
— Стойте, панове! — крикнул в это время звонкою, высокою нотой чей–то молодой голос. — Подарите нам одного немца, нашего атамана Хирдму{98}, он хоть и строг, да правдивая душа!
— Эка невидаль! Найдешь себе другого! — загалдели одни.
— На базаре немоте будет дешевая цена! — засмеялись другие.
— Нет, панове, жалко немца! — настаивал–таки молодой.
— Да целуйся с ним! Возьми себе его хоть за пазуху! — огрызнулся Нос.
— В чем же станет честная черная рада? — спросил для формальности Дженджелей.
— Все клянемся стать под знамена своего гетмана Богдана, — ответил сиплым и резким голосом Ганджа, — всю теперешнюю старшину вылущить и избрать себе нового старшого. — Так? Згода, панове? — обратился он жестом к толпе.
— Згода, згода! — замахали все шапками, и у всех, по словам летописца, вспыхнул огонь ярости и гнева.
— Так рушать, по байдакам! — вскрикнул Дженджелей, и с громким ревом ринулась толпа, уже не скрывая своего присутствия, к лодкам.
Не было еще рассвета, но небо уже начинало бледнеть, когда выборные подъехали на легких челнах к байдакам. Молчаливо, напряженно ждали их товарищи, лежавшие только для виду, но не сомкнувшие и на мгновенье глаз.
Переданное решение подняло всех сразу на ноги и вырвало из сотен грудей единодушный, не сдержанный уже осторожностью крик:
— На погибель ляхам и перевертням!
Барабаш, успокоенный и подкрепленный настойкой, безмятежно храпел под шелковым навесом своей гетманской палатки, но страшный крик донесся и до его пьяного уха и заставил вздрогнуть всем телом. Полураздетый привстал он на перине и, широко открывши полные недоумения и страха глаза, стал с ужасом прислушиваться к этому приближающемуся крику. Через мгновенье он понял все и беспомощно заметался, не зная в отчаяньи, куда броситься. Но и спасаться было уже поздно: разъяренная толпа с обнаженными саблями и нагнутыми копьями неслась бурным потоком к его палатке. Барабаш схватил было мушкет, но увидел эти искаженные злобой лица, эти устремленные на него свирепые глаза, в которых не было и тени пощады.
растерялся, выронил его из рук и в смертельном страхе повалился на колени.
— Вот он — иуда, предатель! Вот он–враг церкви святой! — вопили неистово козаки, устремляясь на бледного, как мел, Барабаша.
— Пощады! Милосердия! На бога! — беспомощно защищал Барабаш старческими трясущимися руками свою обнаженную грудь и молил всех рвущимся от слез и ужаса голосом. — Я за вас, мои дети… будь я проклят, что хотите… куда хотите…
— Ишь, что запел идол! А привилеи украл? А нас всех запродал?
— А сколько перемучил народа, в угоду панам? — протискивались задние ряды с копьями. — Сколько посиротил детей? Скольких пустил по миру нищими, калеками?
— Берите все мое… — шептал беззвучно Барабаш, ломая руки, и искал безумным взором хоть у кого–нибудь сострадания, — все… все… берите… Только жизнь даруйте… покаяться дайте… Христа ради!
— Еще Христом молит христопродавец!
— И руки марать об эту гадину тошно! — заметил другой.
— Татарам продать его! — вскрикнул третий.
У Барабаша уже шевельнулась было надежда: последнее предложение могло бы действительно взять верх, так как татары могли дать за Барабаша приличную сумму, а корысть для всякого соблазнительна; но в это время из толпы вырвался молодой рейстровик со зверским лицом и пеной на губах.