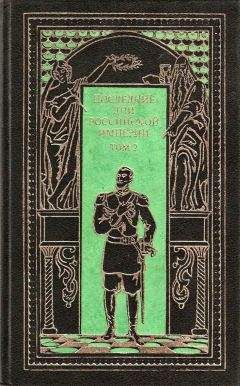Петр Краснов - Последние дни Российской империи. Том 3
На углу стола Рахматов выговаривал, сидя, стоявшему перед ним Осетрову:
— Вы, товарищ, доведёте лошадей до того, что они подохнут. Ни чистки, ни корма.
— Да что же я делать могу, товарищ? Корма не добьёшься. Я уже специальных людей назначил, чтобы, значит, пороги обивали и просили о наряде продовольствия; чистить нечем. Щёток ни за какие деньги не достанешь. Товарищи чистить не могут. Как тени шатаются голодные. В конюшнях грязь.
— Вот на это-то самое, товарищ, я вам и указываю. Потрудитесь, чтобы этого не было.
— Нарядите, товарищ, субботник, хоть конюшни почистить… А впрочем, — с досадой сказал Осетров, — и субботник не поможет. Придут буржуи. Ничего не умеют, ни лопат у них, ни лотков, ни тачек. Только нагадят по дворам.
— А куда же все девалось? — спросил Рахматов.
— Зимою пожгли. Сами знаете, какие морозы были.
— Ну, знаете, Осетров, — это все отговорки. Вот у Голубя же все какой ни на есть, а порядок.
— Голубь кто! Голубь — царский вахмистр, а я — коммунист, — желчно сказал Осетров.
Пришли музыканты. Их было пять человек. Поднятые с постелей, они пришли немытые, лохматые, грязные и вонючие. На них были ошарпанные, плохо пригнанные френчи и шаровары, а бледные лица их носили следы болезней и недоедания.
— Вы что, сволочи! — злобно зашипел на них Голубь. — Причесаться, подлецы, не могли. Ах мерзавцы! Живо прибраться. Чтоб я такими вас не видал.
Они ушли на кухню и, когда вернулись, выглядели лишь немного лучше.
Гармоника издала писклявый звук, к ней пристроился кларнет, загудела другая гармоника, и простой, грубый мотив раздался по залу. Разговоры смолкли.
Звонкий, хриплый, простуженный тенор воплем вырвался из-за стонов гармоники и гудения кларнета. Не-то пение, не-то крик разносчика, как кричали в старину по дворам и по дачам ярославцы в белых передниках и с лотками на головах, огласил весь зал.
Огурчик зелёный,
Редька молодая…
Являйтесь, дезертиры,
К пятнадцатому мая!
Пароход идёт,
Да волны — кольцами…
Будем рыбу кормить
Добровольцами.
Всех буржуев на Кавказе
Аннулируем,
И сафьяные ботинки
Ух! Да! Реквизируем!..
— Славная песня, — сказал, пошатываясь, Осетров, — А спойте, товарищи, «Шарабан».
Опять заныла гармоника.
Солдат — российский,
Мундир — английский,
Сапог — японский,
Правитель — Омский.
Эх, да шарабан мой,
Американка!
Не будет денег —
Продам наган.
Идут девчонки,
Подняв юбчонки,
За ними чехи
Грызут орехи.
Эх, да шарабан мой,
Американка!
— Ну, что это за песня, — сказал, выходя к музыкантам, Полежаев. — Вот шёл я сегодня по Питеру, так иную песню слыхал. Давай, товарищ гармошку.
Полежаев спокойными глазами обвёл все общество и взял мотив частушки.
Я на бочке сижу, —
пропел он.
А под бочкой мышка,
Скоро белые придут —
Коммунистам крышка!
Едет Ленин на коне,
Троцкий на собаке,
Комиссары испугались —
Думали — казаки.
Я на бочке сижу.
А под бочкой склянка,
Мой муж — комиссар,
А я — спекулянтка!
— Здоровая песня, — прокричал Голубь, — эко ловко сказано как: мой муж комиссар, а я спекулянтка! В самую точку попал!
— Белогвардейская песня, — презрительно сказал Коржиков. — Откуда вы взяли её, товарищ?
— В Петрокоммуне слыхал. На улице «25 октября» мальчики пели.
— Видно, Чека ещё не добралась, — вставил Гайдук.
— Погоди, доберётся, — мрачно сказал Коржиков. Лицо его потемнело. Все притихли. Чекисты Гайдук и Шлоссберг подошли к Коржикову, готовые схватить Полежаева. Мими с бледной улыбкой на лице пристально смотрела на Полежаева. Беби Дранцова приподнялась на локте и с восторгом смотрела на него. Среди офицеров тоже произошло движение. «Эх!» — с досадою воскликнул Голубь, и на серые глаза его навернулись слёзы. Один Полежаев остался совершенно спокоен. Он ровными, твёрдыми шагами подошёл к фортепиано, открыл его и, не садясь, попробовал.
— Ну вы! — повелительно крикнул он гармонистам. — Оркестр Будённого! Нишкни! Заткнись и засохни! Не отравляй моего русского слуха дребеденью, придуманною хулиганами и контрреволюционерами. Я буду петь!
Грянул мощный аккорд, и сильный голос потряс весь зал.
Налей бокал!
В нём нет вина.
Коль нет вина, так нет и песен!
В вине и страсть,
И глубина,
В разгуле мир нам будет тесен!
— Эй! — крикнул он, — товарищ! Бокал мне! Коржиков мягкими кошачьими шагами подошёл к нему.
— Вы это что же, — прошипел он. — Вы забываете, что я здесь хозяин.
— Хозяин, — загремел, не оборачиваясь от рояля, Полежаев. — Да вы ошалели, товарищ комиссар, слава Ленину, мы живём в коммунистическом государстве, и здесь нет собственности. Подайте мне, товарищ, вина!
Красноармеец подошёл к нему с бутылкой и бокалом. Полежаев медленно, не спуская тёмных глаз с Коржикова, выпил бокал и заиграл на рояле. Он играл мастерски. Старые русские песни и мелодии русских опер лились с клавиш, будя какие-то неясные воспоминания. «Ах, вы сени, мои сени» — весело играл Полежаев и лицо его лукаво подмигивало, и вдруг оборвал, и тягучий напев «Ноченьки» зазвучал по залу. Он сорвался на арию из «Жизни за Царя», осторожно, точно дразня, тронул два аккорда Русского гимна и сейчас же весело грянул «Ваньку».
— Ну же! Ну! — крикнул он. — Ведь знаете же, товарищи, что же молчите! А? Ну!
Понапрасну Ванька ходишь,
Понапрасну ножки бьёшь!
— Ну!
Первым пристроился Рахматов, за ним не сдержалась молодёжь, Голубь старческим дребезжащим голосом подпевал и уже слёзы лились по его щекам.
— Ничего ты не получишь…
Пели все гости, и только Коржиков мрачно ходил взад и вперёд по залу. Полежаев заиграл «Вниз по матушке по Волге», и хор гостей, уже не ожидая приглашения, грянул могучую русскую песню.
Разыгралася пого-ода —
— Будённый, не ври! — крикнул Полежаев от рояля в сторону песенников.
Погодушка, она, верховая…
Ничего в волнах не видно…
Шире гремела песня. Коржиков ходил взад и вперёд под портретами предков и ему казалось, что предки следят за ним глазами. Он понюхал кокаина, и стало ещё хуже. Коржиков уже видел, что пели не только его гости, но все предки на портретах открыли рты и пели проклятую русскую песню. Он посмотрел кругом. Все гости пели. Пела и прислуга. Молодой красноармеец, подававший вино Полежаеву, опустил бутылку, широко раскрыл серые глаза и, радостно улыбаясь, вторил песне.
— А, и ты, сволочь! — прошипел Коржиков, выхватил из-за пояса тяжёлый револьвер и выстрелил прямо в рот красноармейцу…
Тот поперхнулся, всхлипнул и упал навзничь на пол, тяжело ударившись затылком об угол оттоманки. Вместо рта у него была чёрная дыра и оттуда, тихо журча, текла тёмная густая кровь.
III
В зале произошло смятение. Гайдук и Шлоссберг угодливо подбежали к Коржикову.
— Контрреволюция? — прошептал Гайдук.
— Она самая, — сказал гордо Коржиков. Он был не в себе. Он жадно вдыхал тягучий запах крови и холодного порохового дыма и смотрел бешеными глазами зверя на Беби Дранцову. Беби билась в истерике на оттоманке. Гости застыли на тех местах, где кто сидел. Музыканты оркестра Будённого сбились в углу и готовы были бежать. Подле них стоял Рахматов, и тяжёлая улыбка застыла на его бескровном лице. Один Полежаев сидел на своём месте у рояля и смотрел то на Коржикова, то на труп. Труп лежал у самой оттоманки, и голова его была чуть ниже головы, бившейся на мутаках Беби.
Коржиков потянулся и в два шага очутился подле Беби. Он нагнулся к ней и стал быстрыми, ловкими движениями снимать с неё платье. Она затихла и безумными глазами смотрела на Коржикова. Спали вышитые наплечники корсажа, хрипнула передняя планшетка корсета, показалось батистовое смятое продольными складками белье, голубые ленты резинок и шёлковые чулки, обнажилось белое, полное, нежное тело. Коржиков снимал все покровы с Беби. Она покорно помогала ему. Ещё секунда и подле трупа лежала обнажённая прекрасная женщина. Коржиков нагнулся над нею, стал на колени на оттоманку и опустился на Беби.