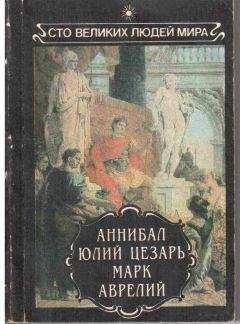А. Сахаров (редактор) - Екатерина Великая (Том 1)
Бегов ещё не было, но вдруг зимою на набережной какой-то шорох пронесётся среди гуляющих, хожалые будочники с алебардами побегут, прося посторониться и дать место, в серовато-сизой мгле за Адмиралтейским мостом покажутся выравниваемые в ряд лошади, запряжённые в маленькие санки, и вдруг тронутся разом и – «чья добра?..» – понесутся в снежном дыму лихие саночки.
– Пади!.. Пади!.. – кричат наездники – сами господа. Нагибаются, чтобы видеть побежку любимца коня, молодец поддужный в сукном крытом меховом полушубке скачет сбоку, сгибается к оглоблям, сверкает на солнце серебряным стременем.
Народ жмётся к домам, к парапету набережной, у Фонтанки, где конец бега, кричит восторженно:
– Орлов!.. Орлов!..
– Ваше сиятельство, наддай маленько!..
– Не сдавай, Воронцов!..
– Гляди – Барятинского берёт…
– Э… Заскакала, засбивала, родимая… Не управился его, знать, сиятельство.
Ни злобы, ни зависти, смирен был и покорен петербургский разночинец, чужим счастьем жил, чужим богатством любовался.
Паром дымят широкие, мокрые спины датских, ганноверских – заграничных и своих русских – тульских и тамбовских лошадей, голые руки наездников зачугунели на морозе, лица красны, в глазах звёзды инея. Красота, удаль, богатство, ловкость… И какая радость, когда вырвется вперёд свой русский рысак, опередит «немцев» и гордо подойдёт к подъёму на мост через Фонтанку.
Свадьба знатной персоны, похороны – всё возбуждает любопытство толпы, везде свои кумиры, местные вельможи, предпочитаемые всем другим, – кумиры толпы. И над всеми кумирами царила, волновала восхищением прелестная, доступная, милостивая, милосердная матушка Царица, Государыня свет Екатерина Алексеевна!
По утрам со двора неслись распевные крики разносчиков. Сбитенщик принёс горячий сбитень, рыбаки, зеленщики, цветочники, крендельщики, селёдочницы, молочные торговки – каждый своим распевом предлагал товар.
Иногда придут бродячие музыканты, кто-нибудь поёт что-то жалобное на грязном дворе, и летят из окон завёрнутые в бумажки алтыны, копейки, полушки и четверти копейки – «Христа ради»!..
По вечерам в «мелочной и овощенной торговле» приветно горит в подвале масляная лампа, и кого только тут нет! Читают «Петербургские ведомости», обсуждают за кружкою полпива дела политические. Тут и подпоручик напольного полка в синей епанче, и старый асессор из коллегии, и крепостная девка с ядрёными красными щеками, в алом платочке и с такими «поди сюда» в серых задорных глазах, что стыдно становится молодому поручику. Лущат семечки, пьют квас и пиво, сосут чёрные, крепкие, как камень, заморские сладкие рожки. Довольны своею малою судьбою, забыли вонь дворов и лестниц, темноту глубоких низких комнат. О малом мечтают… Счастливы по-своему.
В этот простой и тихий, незатейливый мир разночинцев петербургских, в маленькую комнату над сенями, в доме «партикулярной верфи», в Литейной части, на квартиру к старой просвирне, в 1764 году подал на тихое «мещанское» житие подпоручик Смоленского пехотного полка Мирович, Ещё недавно фортуна улыбалась ему – он был адъютантом при генерале Петре Ивановиче Панине, но за вздорный характер и за картёжную игру был отставлен от этой должности.
Карточные долги его разорили. Доходила бедность до того, что целыми неделями питался он пустым сбитнем да старыми просфорами, которые из жалости давала ему хозяйка.
Среднего роста, худощавый, бледный с плоским рыбьим лицом, не в меру и не по чину раздражительный и обидчивый, он, когда не был занят службою в караулах, целыми днями валялся на жёсткой постели на деревянных досках грубого топчана или ходил взад и вперёд по маленькой комнатушке и обдумывал различные комбинации, как поймать фортуну, как разбогатеть и стать знатной персоною. Но как только смеркалось, чтобы не жечь свечи, спускался он, закутавшись в епанчу, на улицу и шёл в соседний дом в мелочную лавочку.
Куда-нибудь подальше от темноты, сырости и мыслей.
У прилавка знакомый, жилец того же дома, придворный лакей Тихон Касаткин. Хозяин хмуро поздоровался с Мировичем. Тот потребовал себе пива.
– Что скажешь, Тихон, нового?..
– Нонешним летом, сказывали у нас, Государыня в поход собираются. Лифляндские земли смотреть будет В «Ведомостях» о том тоже писали.
– Так.
– Лошадей по тракту, слышно, приказано заготовлять, на Ямбург, Нарву, Ревель и Ригу. Лакеев отбирали, камердинов, кому ехать, кому здесь оставаться.
– Что денег опять пойдёт!..
– При нонешней Государыне жаловаться не приходится, во всём сокращают где вдвое, где и больше против прежнего. Даже господа роптали, что очень скромны стали вечерние кушанья во дворце и бедны потешные огни.
– Да… Так… Был я на прошлой неделе во дворце, и после приёма все приглашённые были званы в Эрмитажный театр, пошёл и я. А меня не пустили… Мол, от напольных полков только штаб-офицерам в Эрмитажный театр доступ имеется. Как ты полагаешь, правильно это?
– Эрмитажный театр, сами, чай, знаете, маленький, где же туда многих-то смотрителей пустить? Такое правило. Вот дослужитесь, Бог даст, до штаб-офицерского чина, и вас туда пригласят.
– Может быть, твоё слово и верное, Тихон, да надо знать, кто я… Я – Василий Яковлевич Мирович… Мой дед Фёдор Мирович был генеральным есаулом при Орлике, мой прадед был переяславским полковником… Понял ты это?..
– Надо вам самому того заслужить.
– Ну… А… Разумовский?.. Орлов?.. Где, какие их заслуги?.. Какое происхождение?..
– Каждому, ваше благородие, своя фортуна положена. Они попали в случай. Вы – нет.
– Когда Мазепа и Орлик, а с ними мой дед, бежали с Украины за границу, Пётр Великий написал гетману Ивану Скоропадскому, чтобы «изменничьих» детей прислать в Москву… Изменничьих!.. Каково!.. Моих отца и деда!..
– Могло, ваше благородие, и хуже быть. Пётр Великий шутить не любил.
– Наше имение конфисковали… Теперь мои сёстры умирают с голода в Москве, а мне и послать им нечего.
– В карты много, ваше благородие, играете.
– Нет… Что карты?.. Вздор!.. Каково, Тихон!.. Мировичи?.. С голода?.. Мировичи!.. Где искать мне правды?.. Где найти милосердие и уважение?..
– Вы пошли бы, ваше благородие, к гетману графу Кириллу Разумовскому, всё ему и изъяснили бы, как и что и в чём ваша обида. Он, сказывают, душевный человек, и до вас, малороссов, вельможа очень даже доступный.
– Да… Может быть, и так… Но, Тихон, не думаешь ты, что всё могло бы иначе для нас сложиться?.. И мы сами могли стать, как Разумовские, Орловы, Воронцовы, больше их, знатнее… Почему?.. А что?.. Только переменить и новую начать жизнь…
– Надоели нам, ваше благородие, эти частые перемены. Конечно, всё ныне беднее стало, как при покойной Императрице, но только и порядка больше, и обращение к нам такое деликатное, грех пожаловаться, в каждом простом, можно сказать, служителе не скота, но человека видят.
Мирович молча пил пиво. Он больше ничего не сказал. Он заметил, как вдруг сжались у Касаткина скулы, побледнели щёки и в глазах упорство воли.
«Нет… Не свернёшь, – подумал он, – за своё маленькое счастье цепляются, большого не видят… Мелюзга!..»
– Хозяин, – крикнул он. – Запиши за мной до жалованья… Прощай, Тихон. Спасибо за совет. И точно, попробую к гетману.
Дверь на тяжёлом блоке с привязанными кирпичами с трудом поддалась. Пахнуло сырым воздухом и навозом, ледяная капля упала с крыши Мировичу на нос. Мирович завернулся в епанчу и побрёл через улицу домой.
XIV
Гетман Кирилл Григорьевич принял Мировича без промедления. У него, как и у брата его Алексея, была слабость к малороссам. Он посадил молодого офицера и дал ему вполне высказаться.
– Ось, подывиться!.. – сказал он, когда Мирович сказал всё, чем он обижен. – Претензий, претензий-то сколько!.. И все неосновательные. Что денег нет – велика беда… Проси, сколько хочешь, – дам.
– Я милостыни, ваше сиятельство, не прошу. Я ищу справедливости и уважения к моей персоне.
– Усердною службою и верностью матушке Государыне дослужись до штаб-офицерского чина – вот и уважение получишь. А справедливость, так тебе грех на несправедливость жаловаться… Могло быть и много хуже.
– Иногда, ваше сиятельство, хуже бывает лучше.
– Вот ты какой!..
– Ваше сиятельство – Мазепа и Орлик… Удайся им… Мой прадед, переяславский полковник, а мои сёстры… В Москве с голода… С голода!..
– Что же, братец… Мазепа и Орлик? Хорошего мало в них вижу… За них-то ты и платишься… Отец, дед?.. Мёртвого из гроба не ворочают… Ты – молодой человек, сам себе прокладывай дорогу. Старайся подражать другим, старайся схватить фортуну за чуб – вот и будешь таким, как я и как другие.
Разумовский подался с кресла, давая понять, что аудиенция окончена. Мирович встал и откланялся ясновельможному гетману.
Смеркалось. На Невском мокрый снег, разбитый конскими ногами, смешался с навозом и коричневой холодной кашей лежал на деревянной мостовой. Жёлтый туман клубился над городом. Из непрозрачного сумрака синими тенями появлялись пары, четверики цугом с нарядными форейторами и тройки, скрипели по доскам полозья многочисленный саней.