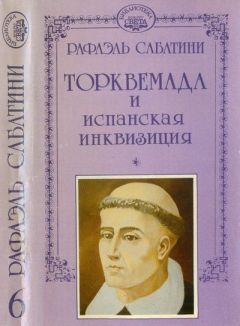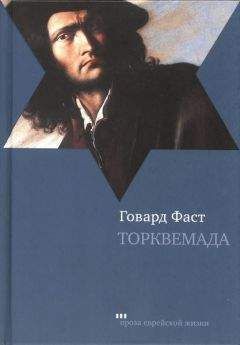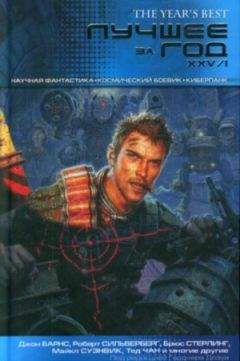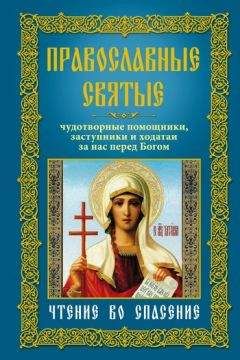Аркадий Савеличев - Савва Морозов: Смерть во спасение
— У тебя как в осажденной крепости, — высказал ему свое недовольство.
— Осада и есть, только крепости‑то нету. Заводской забор да стены цехов, — беспокойно рапортовал племянник, здороваясь.
— Ну, стены отец не иначе как для пушек делал — метровые.
— Пушки. Не хотелось, чтобы до этого дошло.
— А что, может статься?
— Может, — с какой‑то лихой уверенностью предупредил Николаша. — Все заводы бурлят, а особенно у меня да на Прохоровской мануфактурах. Трехгорка, по сути, уже не подчиняется хозяину.
— Потому что Прохоров — жмот.
— Все мы, хозяева, жмоты.
Они перешли между тем в директорский кабинет. У дверей его уже двое рослых парняг в открытую с винтовками стояли.
— Да-а, Николаша.
— Жизнь заставляет. Не будь у меня дружинников, жандармы давно бы разгромили фабрику.
— Думаешь, не решатся?
— Пока что нос не сунут. У меня две сотни дружинников, а в случае чего, еще несколько сотен в един день под ружье станут. Хуже, если власть двинет войска.
Он не хотел продолжать эту опасную мысль, а дядюшка дальше не расспрашивал. И так все ясно. Права Зинаида: истинно, по уши увяз племянник в революцию. Его ли это дело?!
— Но вожди ваши по парижским да лондонским кофейням посиживают, болтовней забавляются. Ради них шкурой своей рисковать?
— Ради России!
Все‑таки фальцетом пропел племянник эту расхожую сентенцию. Сам дядюшка на такую прекраснодушную песнь не решился бы. Россия? Все кричат о ней, все толкутся вокруг какого‑то несуществующего флага, и никто не хочет делом заниматься. Нищета как чума расползается по губерниям. От нищеты и бурлит народ. С той же Перми управляющий пишет: еле держится лакокрасочный завод, на шаг от забастовки, делайте что‑нибудь, хозяин! А хозяин удирает за границу. Вождей ругает, а сам туда же. Что ему остается? Отвечать пермяку он уже не имеет права. Вот дожил!
У племянника есть пока права. Он взял да и ввел девятичасовой рабочий день, с одновременным повышением зарплаты. Она сохранялась и на время болезни, и даже за дни забастовки, коли случится. Дядюшка, сам вышибленный из дела, все‑таки остерег:
— Слишком круто берешь. Растопчут тебя, племянничек.
— Но мы же Морозовы!
— И я Морозов, а видишь до чего дошел? Ради хлеба живу! — В сердцах он выдернул из кармана руку, в которой почему‑то блеснул браунинг.
— А-а, дядюшка! И ты вооружаешься?
— Да так, на всякий случай. — смутился дядюшка. — Хулиганов много поразвелось. Ты с меня пример не бери. Не гони лошадей! И. не обольщайся любовию народной!
Он вертел в руках адрес, преподнесенный хозяину в честь введения девятичасового дня. Он пытался читать это по обычаю иронично:
«Гуманному и сердечному хозяину Николаю Павловичу Шмиту. На добрую память от благодарных рабочих.»
— А вот я что‑то и в благодарность их не верю.
Племянник пожал плечами под студенческой тужуркой и ничего не ответил.
«В немногих словах позвольте нам, Вашим рабочим, высказать те благоприятные чувства, которые идут из глубины наших сердец, и признательность за все Ваши сердечные к нам, рабочим, отношения, как введением девятичасового рабочего дня, так и в многих Ваших покровительственных деяниях.»
Что‑то вроде зависти было. Разве он, Савва Морозов, мало сделал для своих рабочих? А они по наущению — то ли полиции, то ли родичей — бастуют и за хозяина не подумали заступиться!
«Мы же, Ваши рабочие, соединясь воедино, обещаем Вам, что теперь с большей энергией и старанием отнесемся к обязанностям нашим для Вашего предприятия. Процветать ему на многие, многие годы во славу и честь Вашей фирмы.
Вам благодарные и признательные рабочие Ваши».
Поздравительный адрес был вложен в кожаный переплет, на котором красовалась бронзовая пластина с выгравированным текстом.
Начав с насмешки, Савва Тимофеевич глубоко задумался. Он чувствовал какую‑то глубинную правоту племянника. Но не мог ее принять. Обида? На кого — на этих несчастных людей, которых матушка презренно называет «фаброй»?
Раздосадованный, он засобирался домой.
— Попрощаемся, племяш. Я ведь скоро отбуду во Францию. Свидимся ли еще когда?
По тому, как округлились глаза у Николаши, он понял, что напугал его.
— Ладно, ладно, еще съездим к цыганам! — попытался свести все к шутке. — Поди, Палаша не будет бранить?
— Она уехала куда‑то за черту оседлости, не оставив даже адреса. Лишь писульку: «Не хочу портить тебе жизнь, мой милый». Вот так‑то. А мы с вами, дядюшка, свадьбу гоношили!
Отвечать тут было нечего.
С тяжелым чувством уходил дядюшка от племянника.
Прогулки не возбранялись, но назывались они уже иначе — моционом. И всегда в сопровождении кого‑нибудь. То доктора Гриневского, то какого‑нибудь приятеля Зинаиды Григорьевны, то хоть и кучера Матюшки. Смущенно отводя глаза, Матюшка вожжи не давал. А когда Савва настаивал, грозил:
— Право, уйду от вас. Рази можно так служить? Хозяйка одно, хозяин другое, черногорец и тот права заявляет. В лапту моей башкой играют!
Лапта не лапта, а бродить по городу в одиночку не удавалось. Да и куда теперь ходить? Как‑то уж так случилось, что и театр самоудалился от него, хотя он все еще числился третьим содиректором. Денег теперь мало дает? Это была не просто обида — полынная горечь. Он ведь не знал, что Зинаида Григорьевна обзванивала всех его знакомых и просила Савву не беспокоить, поскольку «он болен, очень психически болен, нуждается в покое и уединении». Мало-помалу друзья свыклись с мыслью, что им теперь придется вечернюю кутерьму крутить без Саввы Морозова. Станиславский был наивен, искренне верил, на плечи Немировича легли и хозяйственные, и финансовые дела — не до сантиментов. Даже дамы — Маша Чехова, Маша Андреева, Книппер, наконец, — оставили своего давнего воздыхателя. Раз болен, так болен, уж тут ничего не поделаешь. Хотя сестра Чехова жила совсем рядышком, обогревалась от морозовской котельной и пила морозовскую воду, даже ваттер-клозет был подсоединен к морозовской канализации — пардон, пардон, как говорится.
А получался не пардон — уж истинно пердон приятельский.
Катаясь с Матюшей в санках, он встретил бегущую куда‑то Андрееву.
— Останови, — приказал.
Матюша знал о наказе хозяйки — ни с кем в дороге не якшаться, — но как отказать в просьбе своему любимому барину? Остановил. Дама вначале помахала ручкой, а потом и в санки вспрыгнула, под медвежью доху хозяина. Они там, за его спиной, так уютно устроились, что казались единым существом, с единой же, Саввушкиной, головой, покрытой собольей шапкой. Смех и грех! Зинаиде Григорьевне приспичило куда‑то ехать, и у Никитских ворот они вплотную сошлись. Даже словами перекинулись:
— Не замерз, Саввушка?
— Не, Зинуля. Прыгай ко мне!
Ужас, ужас, что могло случиться!
Но Зинаида Григорьевна спешила, отказалась:
— Там Елизавета Федоровна плачет, сперва ее утешу.
Даже Матюша знал, что речь идет о вдове убиенного генерал-губернатора. Вроде как ненароком тронул вожжи — рысак сам взвился на дыбы, прежде чем на мягкую рысь перейти. Хозяин похвалил:
— Молодец! Находчив ты, Матюша.
— Будешь находчив, как взгреют. Все едино — хозяин или хозяйка!
— Не бурчи, Матюша. Сверни‑ка к Патриаршим прудикам.
Бывал, бывал Матюша у этих Патриарших. Колея наезженная. Но ведь то до нынешнего наказа хозяйки? Одно утешало кучера: уж раз хозяйка поехала к губернаторской вдове, так наверняка заболтаются. Все же у подъезда наказал:
— Смотрите, недолго.
Матюша не знал, что хозяин сегодня и вообще‑то рад бы отделаться от хихикавшей под дохой приятельницы. Недогадлив на этот раз оказался. Значит, опять раскошеливайся. На кой хрен ему эти большевики. Да вместе и с приятельницей! Сдались! У нее Алешка еще из Рижской крепости не вылез, а она ведь опять деньги клянчить будет — «на партийные дела, на партийные дела, Саввушка!» Знает он эти дела-делишки.
Матюша мерз у подъезда, а его в пот бросало. Не от лекарств ли, которыми его сейчас пичкают?
— Коньяку, что ли, подай. Живете вечным цыганским табором. Где хоть дом у тебя настоящий‑то?
— А где Саввушка, где Саввушка!
— Тьфу тебя, ненасытная! Я еще Алешку не высвободил.
— Да уж мне передали: не сегодня завтра выпустят. Вот прямо от тебя в Ригу и еду.
— Со всей партийной кассой?
— Да главным‑то кассиром, ты знаешь, Леонид Красин, а я только так. собирательница плодов земных.
— Обирательница!
— Так ведь на правое дело, Саввушка, на правое. Сто тысяч ты обещал?
— Ну, обещал. Да сейчас у меня ни хрена нету!
— Так когда будут, когда будут. Векселек можно прислать и из‑за границы. На добровольные пожертвования живет наша партия.