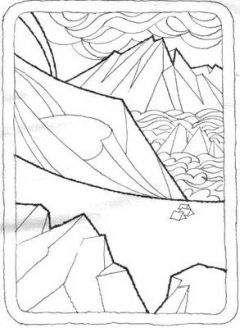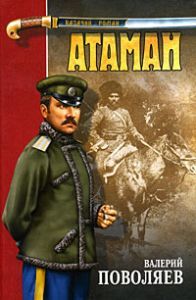Бурсак в седле - Поволяев Валерий Дмитриевич
— Может быть, все-таки кто-то хочет вернуться? — атаман был настойчив.
— Мы там такие следы оставили, что лучше не возвращаться, — сказал третий голос, чистый, звучный, почти детский.
Калмыков так и не разобрался, кто это говорил, — строй перед ним начал расплываться, покрываться красными пятнами, глаза в вечернем солнце заслезились, сделались слабыми, будто у старика.
— Спасибо, — благодарно проговорил атаман, — за доверие спасибо.
Тут строй неожиданно шевельнулся, сдвинулся в сторону, и из него выехал казак с седыми висками и черными, чуть посеребренными усами.
— Я, пожалуй, останусь, ваше высокопревосходительство, — заявил он, окутался паром; белая, закуржавленная инеем папаха была натянута на самый нос, в густом вареве дыхания его голова скрылась, будто не человек это был, а какое-то чудище.
— Значит, домой потянуло? — зловещим хриплым шепотом спросил атаман.
— Домой, — казак наклонил повинную голову, вновь погрузился в белый пар. — Землю свою, надел, мне даденый, вон сколько лет не пахал, надо бы хоть один раз вспахать…
— Домой, к мамке на полати, значит, потянуло? — упрямо гнул свое атаман.
— И этот момент есть, — не стал возражать казак.
— Кто еще хочет к мамке на полати? — Калмыков заскользил взглядом по строю. — Ну!
Строй зашевелился вновь и из него выехал… Вот уж чего не ожидал атаман, так этого — из строя выехал Гриня Куренев.
— Эх, Гриня, Гриня, — зло, едва сдерживая себя, дернул головой Калмыков, — а говорил, век со мною будешь…
— Извините, Иван Павлыч, — устал я. Сил больше нету воевать. — Куренев приложил руку к груди, отвел глаза в сторону.
Калмыков вновь дернул головой и произнес с неверящими нотками в голосе:
— Эх, Гриня!
— Еще раз простите меня, Иван Павлыч, — виновато пробормотал Куренев, я всю жизнь с вами и уже забыл, как выглядит дом, в котором родился. Еще будучи в Хабаровске, я получил письмо из дома — маманя у меня скончалась, — голос у Куренева сделался тихим, дрожащим, — так и не довелось мне с нею попрощаться.
Калмыков эту исповедь ординарца пропустил мимо ушей.
Казак с седыми висками вздохнул и через голову, придерживая одной рукой папаху, чтобы не свалилась, стащил с себя карабин, бросил его в снег.
— Шашку тоже снимай! — потребовал атаман.
Казак отстегнул от поясного ремня шашку, также швырнул ее в снег, произнес с облегчением:
— Все. Больше ничего не осталось. Даже патронов.
Атаман тронул коня, подъехал к Куреневу:
— А тебе, Гриня, что, дополнительное приглашение требуется?
Куренев облегченно шмыгнул носом, потом махнул рукой, словно бы прощался со своим прошлым, и, сдернув с плеча карабин, несколько мгновений держал его на весу.
— Может, оружие оставите, Иван Павлыч? В честь нашей давней дружбы.
— Нет!
Гриня еще раз шмыгнул носом, поцеловал потертое, облезшее от времени ложе карабина, бросил оружие в снег.
— Наган клади рядом, — велел Калмыков.
Куренев отстегнул кобуру с наганом и, согнувшись в седле, опустил его на снег рядом с карабином.
— Теперь снимай шашку!
— Шашку-то хоть оставьте! Не забирайте шашку!
— Снимай шашку!
— Ну какой казак без шашки, Иван Павлыч?
— А ты, Гриня, уже не казак. Большевики ликвидировали казаков, как народ российский, и раструбили об этом во всех своих газетах.
— Эх, Иван Павлыч, Иван Павлыч, — с болью проговорил Куренев, стащил с себя шашку, висевшую на желтом кожаном ремне, и также положил ее на снег. — Последнее отнимаете, Иван Павлыч!
— Это еще не последнее, Гриня, — сказал Калмыков, расстегнул кобуру маузера. Если раньше он любил наган, то сейчас наган был у него не в чести — атаману стал больше нравиться маузер.
Лицо у Куренева сделалось белым — он понял, что сейчас произойдет, губы тоже сделались белыми, на носу, несмотря на мороз, выступил пот.
— Не надо, Иван Павлыч, — униженно попросил он атамана, но тот на него уже не обращал внимания — откинул крышку деревянной кобуры и извлек оружие.
— Не надо, — вторично попросил Куренев, но атаман вновь не обратил на него внимание — ни один мускул не дрогнул на его лице.
Калмыков поднял маузер и, в ту же секунду, почти не целясь, выстрелил. Казак с седыми висками вскрикнул и, вскинув прощально руки, вылетел из седла. На снег он упал уже мертвый, мягкий, как куль, — тяжелая пуля снесла ему часть головы.
— Не надо, Иван Павлыч, — попросил Куренев, губы у него не слушались, одеревенели, речь стала невнятной, — я передумал!… Я остаюсь!
— Не юли, Григорий, — сурово молвил атаман. — Ты предал меня….
— Я остаюсь!
— Предав один раз, предашь и в другой….
— Не надо! — отчаянно выкрикнул Куренев.
Калмыков вновь нажал на курок. Стрелял он метко. Пуля обезобразила Грине лицо, смяла нос и вышибла несколько зубов — вместо лица образовалась сочившаяся кровью рана. Тело дернулось словно бы само по себе, но Куренев, крепко вцепившийся пальцами в луку, обтянутую кожей, чтобы было удобнее держаться, из седла не вылетел, а некоторое время сидел прямой, окаменелый, потом окаменелость прошла, он сложился в поясе и тихо сполз вниз.
Атаман, не глядя на тело бывшего ординарца, засунул маузер в кобуру, звонко щелкнул деревянной крышкой и сделал призывный взмах рукой:
— Поехали!
Приказ прозвучал буднично; отряд начал спускаться с крутого берега на лед реки. По льду метались синие снеговые хвосты, поднятые низовкой — недобрым здешним ветром. Вверху на берегу было тихо, даже невесомый снежный сор не плавал в воздухе, улегся, а тут дул свирепый ветер.
Кто-то в строю, за спиной атамана, совсем недалеко, выкрикнул срывающимся голосом:
— Прощай, Россия!
Калмыков дернулся, словно бы в спину ему всадили гвоздь, протестующее мотнул головой и сипло прорычал:
— Не прощай, а до свидания!
Целые сутки, пока они шли по территории Китая вдоль границы, устремляясь на запад, их никто не останавливал, не трогал — ни одного окрика, ни одного собачьего тявканья, ни одного выстрела.
А вот через сутки раздался тонкоголосый, подрагивавший от страха оклик, — прозвучал он из леса:
— Стой!
Калмыков, двигавшийся во главе отряда, в первой тройке, дал команду остановиться. Приподнялся в седле:
— Ну, стоим… И что дальше?
— Вы вторглись на территорию чужой страны, вы в Китае. Поворачивайте назад, в свою страну!
Атаман пальцем поманил к себе толмача, взятого из Хабаровска — тощего студента, наряженного в огромную, в которую можно было завернуть всадника вместе с конем, шубу, с фамилией вполне воинской: Трубач.
— Вступи с ним в переговоры, — велел Калмыков, — узнай, чего он хочет?
— Он хочет, чтобы мы вернулись в Россию.
— А чтобы у нас выросли конские уши и хвосты, не хочет?
— Об этом он ничего не сказал, господин атаман, — толмач принял слова Калмыкова всерьез и отвечал вполне серьезно.
— Скажи ему, что мы белые казаки и назад нам ходу нет — ждет верная гибель. Мы уйдем, но только позже, когда в России изменится обстановка.
Толмач поспешно перевел эти слова, китаец что-то обозленно прокашлял в ответ и вышел из-под огромной старой ели, держа наперевес новенький «маузер» — добротную немецкую винтовку. Калмыков знал, что китайцы недавно закупили для своих пограничников большую партию таких винтовок.
Лицо китайского солдата ничего не выражало, было словно бы вырезанным из дерева, выделялись только угольно-черные глаза. Как два уголька, жили на его физиономии своей отдельной, какой-то особенной жизнью, заиндевелые ресницы хлопали, прикрывая эту светящуюся чернь; хлоп-хлоп, хлоп-хлоп… Китаец сделал винтовкой резкое движение и окутался паром — пролаял что-то гортанное, будто янычар, грозивший неверным карами небесными.
— Чего он протявкал? — поинтересовался Калмыков.
— Требует, чтобы мы все-таки убирались к себе, на свою территорию.
— Нет, — тряхнул головой Калмыков, — нет и еще раз нет. Может, ему показать фигу, тогда он поймет?