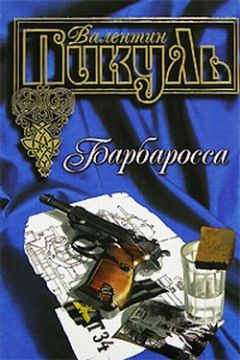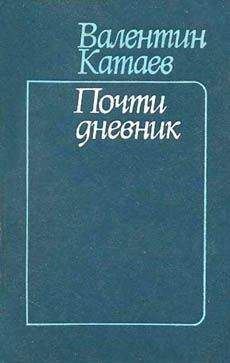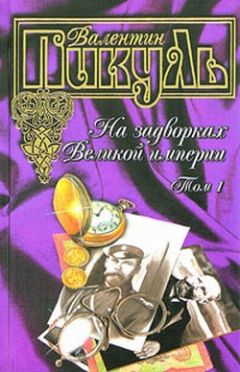Николай Никитин - Северная Аврора
Крестьяне сообщили Жилину, что в нескольких верстах отсюда удирающие миллеровцы подорвали путь. Мужики вызвались на работу. В обозе у них уже припасены были топоры, пилы, лопаты.
– Помогать пришли, – говорили крестьяне. – Бейте сукиных детей в хвост и гриву.
Через час путь был восстановлен. Бронепоезд двинулся дальше.
Ледокол «Минин» стоял на рейде. От него к устью Двины тянулась черная дорожка, пробитая среди льдов. Свирепствовала стужа. Тяжелый морской буксир поддерживал фарватер, быстро покрывавшийся ледяной корой. Днем и ночью он ломал и раздвигал льдины.
На кормовой и носовой палубе «Минина» стояли возле пулеметов иностранные солдаты. Это были остатки иноземного корпуса. Они смертельно мерзли в своих шинелишках. Вместо команды на ледоколе работали белогвардейские морские офицеры.
Миллер, объявив себя диктатором, поселился на «Минине».
Отопление на ледоколе не действовало, офицеры не умели его наладить. Железные массивные борта парохода источали холод, стенки кают покрылись изморозью, иллюминаторы замерзли, к медным ручкам дверей опасно было притронуться голой рукой.
Но страшней всего были, конечно, вести с фронта.
По словам полковника Брагина, явившегося к Миллеру с докладом, один полк за другим переходил к большевикам, а крестьяне бунтовали.
Выслушав доклад, диктатор закричал, что не хочет оставаться у власти и готов передать ее кому угодно, хоть меньшевикам.
– Хорошо, ваше превосходительство, – пролепетал Брагин. – А как же мы?
– Ничего не знаю.
– Армия…
– Какая армия?! – рявкнул Миллер.
Иностранные офицеры сами притащили на ледокол свои чемоданы и жаловались Миллеру, что в городе беспорядок, нет даже носильщиков.
– В квартирах осталось много ценных вещей, нет возможности вынести. Хорошо, что хоть сами выбрались живьем. Жители кричали: «Хватит, награбили!» Что у вас грабить? Вы только подумайте, какая наглость!..
По улицам Архангельска ходили толпы народа с красными флагами.
Процессия рабочих, возглавляемая Чесноковым, Потылихиным, Грековым, с пением «Интернационала» подошла к тюрьме и взломала ворота. Охрана не оказала никакого сопротивления.
– Отворяй камеры! – кричали рабочие. – Где политические? Политических выпускай!
Тюремный двор быстро наполнился людьми. Испуганные надзиратели бегали с ключами по каменным коридорам и отпирали камеры.
Тюрьма шумела.
Истощенные, измученные люди, многие еще со следами тяжких побоев, увидев Чеснокова, кидались к нему:
– Аркадий! Спасибо!.. Что такое? Восстание? Все кончилось?
– Скоро кончится, товарищи! Выходите поскорее. Одевайтесь! Приветствую вас от имени рабочих и крестьян… С освобождением!..
– Вещи давайте! – кричали заключенные надзирателям.
Потылихина окружили освобожденные моряки, портовые служащие, рабочие.
– Максимыч! Родной! Красная Армия пришла?
– Подходит, ребята.
– Жизнь! Воля! Братцы!.. – Кто-то заплакал от радости.
Базыкина побежала в женские камеры.
– К нам, товарищи, к нам!
Со двора доносилась победная, торжествующая песня:
Вставай, поднимайся, рабочий народ,
Иди на врага, люд голодный…
– Товарищи, настал час мести! Не расходиться, товарищи!.. – кричал в коридоре неимоверно худой человек с зеленым, как трава, лицом.
– Где Силин Дементий? – спросил Греков у одного из надзирателей.
– В одиночке.
– Открой!
Когда дверь одиночки отворилась, в нос ударил удушливый, смрадный запах гниения.
На голых нарах, покрытый истлевшим тряпьем, лежал человек. Под головой у него вместо подушки была скомканная, грязная рогожа. В этом изможденном существе, вернее говоря – в этом подобии человека, Греков с трудом узнал никогда не унывавшего балагура-старика Дементия Силина.
– Свобода, Дементий! Вставай! – крикнул он.
– Что такое? – еле слышно прошептал Силин.
– Вставай! Освобождаем тюрьму! Да что с тобой?
– Я не могу идти.
Он задыхался. От напряжения лицо его покрылось крупными каплями пота.
– Аркадия искали. Выбить из меня хотели, где он. Сперва ломали ноги и руки… Потом били. «Живой труп сделаем, выдашь!» А я боялся с ума сойти… Просил расстрелять…
– Погоди, Дементий, погоди, родной! Не утруждай себя. Сейчас вызову людей с носилками, отправим тебя в больницу…
Потрясенный всем виденным, Греков побежал в тюремную канцелярию. В дверях стоял бледный, взволнованный Чесноков.
– Ужас! – сказал он. – Камера набита трупами… Штабелями, как бревна. В последний день… Массовый расстрел… Волосы дыбом становятся.
По Троицкому проспекту медленно двигалась толпа. Гремел «Интернационал». Реяли красные флаги. Незнакомые люди обнимали друг друга, плакали и поздравляли с освобождением от чужеземного ига.
Казалось, что никто не думает сейчас ни о чем, люди ликуют и трудно заниматься делом. Но группы вооруженных рабочих уже становились возле складов, занимали здание штаба, банк, телеграф, захватывали грузовики. Руководил этими группами Чесноков.
Миллер удрал внезапно, ночью, скрываясь от всех, так же как Айронсайд. Впереди шел «Минин», а за ним яхта «Ярославна», набитая штабниками и архангельской буржуазией. На обоих судах огни были потушены. Молодые рабочие Соломбалы выбежали на берег и дали несколько залпов по ледоколу, ворочавшему льды в полуверсте от них. Но задержать ледокол не было возможности. И Архангельск уже сообщал в эфир о событиях…
Той же ночью радисты Шестой армии приняли сообщение: в Архангельске восстали рабочие. Миллер бежал.
Бронепоезда и штабной состав стояли у платформы станции Тундра, вблизи от Архангельска. Фролов получил известие о том, что вскоре некоторые части во главе с их командирами и политработниками будут отправлены на юг добивать Деникина. В одну из армий Южного фронта назначались Фролов и Драницын. Валерия Сергунько командование посылало в Москву на военные курсы. Андрей вследствие серьезного ранения правой руки возвращался в университет. Вместе с ним уезжала и Люба.
…Возле сторожевых постов ярко горели костры. Андрей с Любой шли по снежной дороге. Поравнявшись с бараком, в котором он жил вместе с Матвеем Жемчужным, Андрей стал рассказывать, что здесь было летом, но Люба слушала его рассеянно.
– О чем ты думаешь? – спросил ее Андрей.
– Боязно, – ответила она. – Не хочу с тобой в Питер. Придут образованные, а я замычу, как корова. Нет уж! Видать, песня кончилась! Ветер повенчал нас на Онеге. Ну, и славно! А теперь прощай, ракита. Не для меня Питер. Здесь останусь… Либо упрошу Павла Игнатьевича взять с собой… Прощай, дружок мой ясный! Плохого не желаю. Хочу, чтобы у меня с тобой только хорошее было… Помни навек Любку.
– Да ты что выдумываешь? – взволнованно заговорил Андрей. – Ведь решила, кажется? И вдруг извольте!
– Нет уж! Избави бог цепляться. Нет уж! – твердила Люба. – Батю еще надобно поискать… Где-то он мается?
Андрей взял Любу за руку.
– Люба, нет нашего бати… Погиб! Палач… Флеминг… убил его.
– Как это убил?… – сказала она. – Не понимаю.
Это известие настолько не укладывалось в ее мозгу, что она приняла его почти спокойно.
– А где же могилка? – прошептала она, почувствовав наконец, что это правда.
– Какая там могилка! – Андрей махнул рукой. – Вчера из разведотдела сообщили. Восстание было в Арсентьевской…
Любаша вдруг бросилась прямо на снег и закричала:
– Батя, на кого же ты меня покинул? Родной мой! Красавец мой! Ах, зачем ты потерял свою буйную головушку! Сиротой мне горе горевать… Что ты сделал, мой желанный!..
– Опомнись!.. – говорил Андрей, поднимая Любу. – Пойдем в вагон. Мне так же горько, как тебе. Пойдем. Успокойся. Ну что за вопли? Некрасиво.
В вагоне Люба действительно немного успокоилась. Андрей сидел рядом с ней на лавке. Лицо у Любы было такое, словно она спала с открытыми глазами.
– Эх, батя, батя! – сказала она. – Верно баял: «Вспомнишь, озорница!» Так и не пожил на покое… – Вдруг она встала с лавки, одернула гимнастерку, туже затянула пояс. – Ладно, Андрейка! Едем! Попробую. Чем я хуже других? Авось чему-нибудь научусь.
Переход, как всегда, был самый неожиданный. Андрей крепко расцеловал Любу.
– Вот и хорошо! А я тебе помогу. Ты способная.
– Уж этого я не знаю. А характером возьму! Собиралась я еще из Вологды в Питер ехать… Прислугой хотела работать. Девчонкой совсем была. Купила три аршина кисеи по четвертаку за аршин. Еще при старом режиме. Сшила платье сама… Радовалась… А на следующий день его украли. Так и не поехала. А ты, Андрейка, любить меня будешь? Ну, смотри! Ах, батя, батя!.. Что бы он мне посоветовал?
– То же, что и я, – сказал Андрей. – Павлин Федорович как-то раз сказал мне: «Надо строить наш, советский университет».
В вагон вошел матрос Соколов.
– За нами? – спросил Андрей. – Сейчас идем.