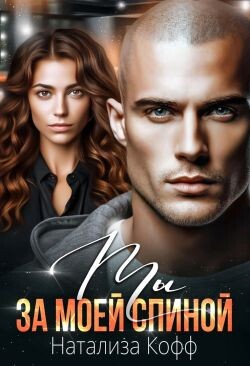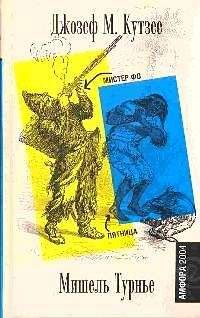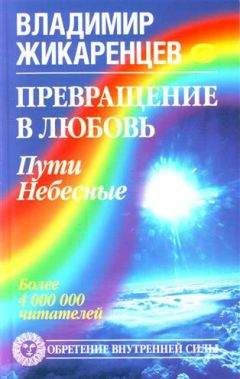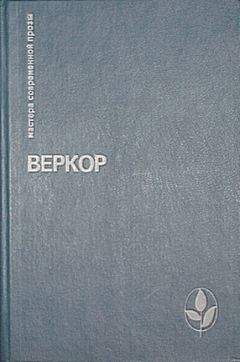Молчание Шахерезады - Суман Дефне
Приоткрыв свои зеленые глаза и увидев меня, Ипек улыбнулась, даже не оторвав головы от подушки, как будто я каждое утро спускалась из своей башни, чтобы разбудить ее.
– Доброе утро, тетя Шахерезада! – Все дети в этом доме, начиная еще с маленького Догана, почему-то называли меня тетей. – А что это у тебя за тетрадь?
По-прежнему лежа в постели, она протянула руку.
Я отдала ей тетрадь с пропитавшимися чернилами страницами и поднялась с кровати. С самого дня нашей последней! встречи с Авинашем Пиллаи я писала без остановки. Не знаю, правда, уж не преувеличиваю ли я собственные заслуги: скорее это не я писала, а слова, рождавшиеся из моего глубокого молчания, сами собой лились на бумагу. С того дня прошло уже сорок лет. Для кого-то этот срок покажется вечностью. Но для тех, кто, как я, прожил на этой земле уже целый век, сорок лет – это всего лишь миг, такой же короткий, как и эта история.
Сначала Ипек открыла тетрадь без особого интереса, но теперь пальцы ее скользили по строчкам взволнованно и с любопытством. Приподнявшись и облокотившись на подушку, она переворачивала страницы, повествование на которых велось на трех разных языках и четырех алфавитах. Она пыталась прочитать написанное, иногда запиналась, возвращалась назад, качала головой и неверяще смотрела на меня. За эти сорок лет тетрадь и так уже порядком поистрепалась – только бы совсем не рассыпалась в ее не самых нежных руках.
– Что это, тетя Шахерезада?! Где ты научилась писать арабской вязью? [145] А это что за буквы? Неужели греческие? Ой, у меня же есть друг-грек. Он недавно сюда переехал. Можно я покажу ему тетрадь, чтобы он мне прочитал? Ах, а здесь ты по-французски написала – подумать только!
Сбросив покрывало и усевшись на простынях со сложенными крест-накрест ногами, она возбужденно ерзала. Но вдруг замерла. Случилось что-то странное. Она подняла свой аккуратный носик и втянула воздух, принюхиваясь. В комнате как будто был кто-то еще, кто-то чужой. Она махнула рукой перед лицом, словно пытаясь поймать луч света.
– Тетя Шахерезада?
– Не яври му?
Ее зеленые глаза широко распахнулись и теперь занимали собой чуть ли не все ее розовощекое личико, так похожее на лицо Сюмбюль; и ведь точно так же делала Сюмбюль, когда слушала истории про Эдит Ламарк, – она склоняла голову набок, как будто пыталась уловить какой-то звук, доносящийся откуда-то очень издалека.
– Тетя Шахерезада!
Ипек закричала так громко, что я вздрогнула. Со страхом обернулась и посмотрела в коридор. Ничего и никого. В этом огромном особняке, как и всегда, мы были только вдвоем. Неужели тот призрак, что мучал Сюмбюль, добрался и до нее? Боже упаси!
Девушка смотрела на меня как зачарованная.
Нет, она услышала вовсе не призрака.
– Тетя Шахерезада, ты разговариваешь! Ты разговариваешь! Ну, то есть… То есть вслух разговариваешь! Не про себя, а вслух. Это невероятно! Не-ве-ро-ят-но! Ты правда сейчас это сказала или мне почудилось, точнее, послышалось? Ну же, скажи еще что-нибудь!
Я нагнулась и посмотрела на свой живот, как будто Ипек только что сказала, что у меня там рога выросли. А после рука сама взметнулась к горлу. Голос? Неужели ко мне вернулся голос?
– О чем ты написала в этой тетради, что это за история? – повторила она свой вопрос, решив, видимо, что именно он и выпустил на волю голос, запертый в моем горле почти столетие.
Сначала ответ прозвучал в моей голове, но затем, подхваченный голосом, прозвучал вслух:
– Это, Ипеки му, сказка о юной девушке, которая в свои неполные восемнадцать лет успела трижды родиться. Теперь она твоя.
Рука моя все еще лежала на шее. Я с тревогой посмотрела в сторону коридора. Сердце мое стучало так бешено, что мне казалось, оно сейчас не выдержит и остановится. Я хотела, чтобы смерть нашла меня в моей башне, на моей полуоблупившейся кровати. Пророчество Авинаша должно было вот-вот сбыться.
Те люди, что спасли тебя и взяли под свое крыло, недаром нарекли тебя Шахерезадой. Знай, пока ты не расскажешь эту историю, смерть в твою башню не войдет.
Я бросилась было обратно к двери, спрятанной под разрисованными розами обоями.
Сложно в это поверить, но голос мой ни капельки не изменился! Может, из-за того что я столько лет им не пользовалась? Это был все тот же низкий, звучный голос еще не познавшей жизнь семнадцатилетней девушки.
Глаза Ипек распахнулись еще шире, и она, прижимая тетрадь к груди, вскочила с кровати. Одета она была в пижаму с овечками. Я успела наступить лишь на первую ступеньку лестницы, ведущей в мою башню, когда она схватила меня за руку.
Сверху по лестничному пролету лился такой знакомый мне свет, сопровождавший меня все эти годы в моем молчании. Игравшие на лице девушки тени делали его еще больше похожим на лицо Сюмбюль. И когда она заговорила, в голосе ее послышались те же решительность и материнская забота, которые всегда наполняли голос Сюмбюль.
– Нет, ты не можешь умереть! Нет-нет. Только не сейчас, когда к тебе наконец вернулся голос. Ты столько еще должна рассказать! Давай пойдем куда-нибудь и отпразднуем рождение твоего голоса. Хочешь, я отвезу тебя на Кордон? Посмотрим на море, позавтракаем, ты будешь рассказывать, а я слушать. Я вот как раз очень проголодалась. А ты? Нет, даже и не думай. Больше ты туда не вернешься. Подожди, я сейчас быстренько соберусь. Нет, теперь уж никакой башни. Подожди меня здесь, в моей комнате.
Она вывела меня в коридор, взбежала наверх и захлопнула спрятанную под обоями дверь. Посмотрела с недоумением на замок, который Хильми Рахми когда-то собственноручно повесил, а затем без тени сомнения защелкнула его, навеки запирая вход в башню. И умчалась в своей пижаме с овечками в ванную комнату.
Я легла на ту самую узенькую кровать, где когда-то по утрам, вернувшись из спальни Хильми Рахми, снова и снова вспоминала каждую секунду ночи, проведенной в его постели. Уткнулась носом в подушку, на которой остался аромат кожи Ипек: как и у Сюмбюль, кожа ее пахла жимолостью и корицей.
Ключ, который когда-то собственными руками вручил мне Хильми Рахми, по-прежнему висел у меня на шее, но я знала, что больше никогда не поднимусь в свою башню. Пусть немая Шахерезада ждет там своей смерти, а я, снова обретшая дар слова, вернусь к жизни.
И действительно, стоило только нам покинуть окружавший особняк сад и выйти на улицу, как я почувствовала, что от ладони Ипек, сжимавшей мое запястье, потекла жизнь, наполняя мои вены, проглядывавшие под истончившейся, сморщенной кожей. Над нами раскинулось бескрайнее голубое небо. С крыши особняка с криком поднялись чайки и полетели к морю, словно показывая нам дорогу. А следом за нами бежали кошки. Из переулков доносились звуки музыки и смех. Под ручку, мелкими шажками мы шли к набережной. И за нами вдруг увязался рыжий уличный пес с коротким хвостом.
– Я хочу услышать всю-всю историю с самого начала, – сказала Ипек, когда мы сели за столик.
Я же пыталась понять, где мы. Улыбчивый официант, тут же выставивший перед нами тарелочки с помидорами, оливками и разными сырами, сказал, что до этого здесь был кинотеатр «Тайяре», или, как его называли еще раньше, «Синема Паллас». В тысяча девятьсот двадцать третьем году здесь впервые вышла на сцену мусульманская женщина, теперь в ее честь на здании висела памятная табличка, а улица носила ее имя. Про «Театр-де-Смирне» он не знал.
Повернув голову, я со страхом взглянула на море. Сколько жизней оно поглотило, а цвет его от этого совсем не помутнел – все те же лазурно-голубые волны набегали на берег. Только солнце, казалось, палило еще беспощаднее и злее. В воздухе чувствовался легкий привкус угля. Перед нами прошли, пересмеиваясь, две девушки. С мороженым в руках. Юбки – выше колена, волосы распущены. Где-то вдалеке лилась веселая песня.
Официант что-то говорил, но Ипек не было до него никакого дела: она, проследив за моим взглядом, тоже любовалась видом.