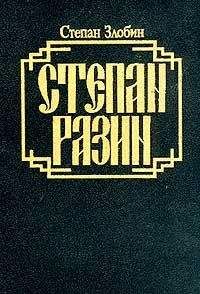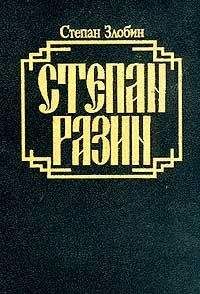Степан Злобин - По обрывистому пути
— А Федот куда делся? — спросила Аночка, вспомнив шумного богатыря, вожака рабочих.
— А Федот-то и есть у них самый главный! Ты его не узнаешь: цепочку завел для часов, на кулачные стенки не ходит, в трезвости клубы ходит да книжки читает… — Антон приложил ладонь трубкой ко рту: — Он с охранным спутался, я-то знаю того, который ходит к нему, вот что! — шепнул Антон. — Из-за того и Манюшка с Лизкой рассорились… И-и, что тут было! Манюшка продажной шкурехой Лизку, а та ее крепче, в волосья вцепилась, ажио их бабы водой разливали. Ведер пять, поди, вылили на пол… Манюшка-то в полицейскую веру не хочет. Ее уж Федот улещал: «Дура! Мол, станут зато лечить тебя, дуру!» А она ему в бороду — тьфу!.. Осерчал! В порошок бы истёр её, да его Лизавета схватила. «Мол, помни, — твердит ему, — помни, кто ты теперь есть!» Он притих, а потом присунулся к Маньке да, как змеища, шипит: «Убирайся отселе! Не сойдёшь из квартиры, то с фабрики выживу, знай!..» А ведь он теперь в си-иле, сожрет — не моргнёт!
— И ушла? — спросила Аночка.
— А чего же ей дожидаться! Не барышня — жамкать-то надо! Боялась, что с фабрики сгонят — куды, мол, тогда?! Кругом расчеты. У каждых фабричных ворот человек по пятьсот толкутся… Такая уж время пришла: не взыщи, да подвинься! Ан фабрику бросила всё же. Не в силах…
— А как у нее со здоровьем?
— У Маньки-то? Плохо! Совсем с ней плохо. Пуще ещё отощала… А девку-то младшую помнишь, Варьку, — племянница мне? Вот кто в Лизавете души не чает, а та её балует, чтобы Манюшке завидно стало: «Мол, каково хорошо житье с Лизаветой, а ты, мол, покинула стару-то дружбу!»
— Ну, видно, тут мне теперь не гостить, — почти про себя сказала Аночка, поняв происшедшие перемены. Она растерялась от рассказа Антона.
— Знамо, что не гостить! — Антон зашептал: — Ты теперь, барышня наша Анютушка, самый пущий рабочему враг, потому что ты тилигентка, студентка, против царя и полиции и святого духа, ныне и присно и во веки веков аминь! Поняла?! Да, вот то-то! — закончил он вдруг.
— А где теперь Маня? — спросила Аночка.
— А вот к ней ты зайди, — душевно сказал Антон. — Я у ней по воскресеньям опосле обедни бываю. За банями в переулке налево кирпичный подвальчик на, улицу окнами. В третье окошечко стукнешь… Не жилица она. Цветы лепит — розаны, незабудки, в похоронное принимают… На гроб себе разве что слепит, и то навряд… Дай бог гроб, а цветы не для нас и во гробе!
Аночка вышла. Она слышала о зубатовцах, но никак не могла представить себе, что ее друзья, те самые, с кем она в прошлом году шла в уличной демонстрации с красными флагами, — Федот, Лизавета, Манька и их подруги — могут попасть в эти гнусные сети полицейского сектантства, насаждаемого жандармами. Ей мало было рассказа Антона, захотелось увидеть одинокую чахоточную Маню, которая сберегла себя, нашла в себе силы сопротивляться дурману зубатовщины.
За баней в переулке налево кирпичный подвальчик. Аночка постучала в затянутое морозом окошко.
— Кто там, иди со двора, да по лесенке тише: там склизко, голову не сломайте! — не сразу узнала она в этом надорванном хрипе голос весёлой Маньки.
В затхлом, сыром полумраке подвала на скрип двери Манька откликнулась снова:
— За цветами, что ли, там кто? Идите сюда… — И когда наконец узнала, вдруг еще более хриплым и сдавленным голосом: — Анька! Отколь ты взялась?! Да как ты меня разыскала?! Ну, рада тебе я! Ой, девка! Не очень-то тут раздевайся, — торопливо предупредила она. — Я, видишь, сама сижу в валенках да в пальте. Холодина небось на улице?
— Так себе. Градусов десять, наверно. А ну, покажись, — сказала Аночка, приближаясь к оконцу.
— Что уж казать-то? Эх, Анечка, девонька! Нечего мне и казать! — вздохнула Маня, обняв её за плечи.
В тусклой, убогой клетушке, под побеленными неопытной кистью кирпичными сводами, наподобие тех, какие рисуют в старинных замках, на знакомой, аккуратно прибранной постели разложены были частью готовые, частью ещё не собранные в целое цветы: незабудки, фиалки, розы, ландыши, лилии — шуршащие мертвые цветы мертвых. Тряпичные и бумажные лепестки и листочки были навалены кучками и на столе, возле которого за своей невесёлой работой сидела Маня.
— Похудела ты, правда, — признала Аночка, разглядывая знакомку.
— Уже некуда больше тощать, как коза на репейнике — кожа да кости. В чем держится дух, и сама не знаю. Должно быть, со злости на свете живу. Всех ненавижу!
— Уж так и всех?! — недоверчиво переспросила гостья. — Не всех, конечно, а «тех»… Тебе Антон указал мое логово? Шкалик небось купила ему? Значит, все уж слыхала?.. Эх, Анька! Кабы я удержалась на фабрике, я бы сама к ним в Союз подалась, чтобы в Союзе люди все поняли… Уж так мне досадно глядеть… Подумай, ведь я-то такая же дура, а разом смекнула обман. Профессор к ним ходит такой, Платон Христофорыч, должно, в полиции служит. Он им по-научному затемняет мозги… Мы тут написали про это бумажку одну для рабочих, — тихо призналась она, — да печатать нам не на чём. Может, у вас, у студентов, найдется?
— Узнаю, спрошу, — уклончиво отозвалась Аночка. — А кто составлял?
— Тут, в квартире… один ко мне ходит. В мастерской работает. Ну, и ещё…
— А у них в мастерской все так же, как и у вас? Тоже полиции продались? — осторожно спросила Аночка, в тяжёлой растерянности оттого, что не могла уже выполнить возложенного на нее поручения, не могла связаться с рабочими, хотя перед коллегами нахвалилась своим знакомством.
— Поветрие ходит такое, Анюта! — со вздохом ответила Манька. — Мой-то Саша в маленькой мастерской. У них таких нету. Он гадает, что скоро, должно быть, и все уж поймут. А покуда кругом по заводам плохо… Вот мы для того и взялись за письмо к фабричным — двое чахоточных дураков да с нами третий еще того хуже — Антон-нищий, пропойца!.. Конечно, не нам затевать… Тут и ещё бывает один — тот настоящий… Хвалил за бумажку. Смеется: «Воюйте, воюйте, вояки! Социал-демократы не справятся объяснить рабочим, так, может, вы растолкуете лучше. Кому воевать, как не вам! Вас из рабочего класса и то прогнали!» — смеется, а губы трясутся, сам того и гляди заплачет от злости, что так обошли нынче нашего брата… Помнишь, прошлый-то год, помнишь, Анька?! А Льва Николаича помнишь, Толстого? А как полицейских лупили на площади возле Пушкина!.. Сколько радости было! Я думала — вся чахотка пройдет от такого раздолья. Иду да дышу таково-то легко… Целый день по морозцу тогда с тобой гуляли, подружка нежданная ты моя!
Манька порывисто обняла, поцеловала Аночку и закашлялась с тяжким надрывом, отчего, казалось, ещё больше заострились её скулы и нос.
— Ты не брезгуешь, что целую тебя? Уж так ты обрадовала меня приходом, что я и цветочки свои позабыла, будь они прокляты, сколько в них крови моей, за какие гроши их приходится делать! Сидишь целый день, спину гнешь да всё думаешь, думаешь… Кажется, целую гору всяческой думы надумала, а подсчитаешь цветы — на полтинник не выйдет! Приходишь сдавать, а там все такие же: то кривая старуха, то девчонка без ног, то какая-то умалишенная… А как тут ума не лишиться от этих цветов?! Говорят, что на шляпках на дамских цветы носить мода пришла. Может, модистки дороже заплатят, чем в похоронном. Схожу попытаю, тут адрес мне дали… — Говоря, Маня уже нанизывала какие-то синенькие лепестки на проволочку. — Я их во сне, проклятые, вижу — лиловые, жёлтые, красные! Легче всего ромашки делать, зато за них дешево платят — всё то же на то же выходит! — заключила она. — А ты что искать-то нас вздумала, да и опять в этот, как его… в маскарад нарядилась?.. Ивановной, что ли, старуху твою зовут? Она нынче в шляпке твоей на базар поплетется? — с усмешкой спросила Манька.
Аночка выгрузила припасённые для Маньки гостинцы — связку баранок, пакетик сахару, кусок колбасы и любимого ею студня, который взяла в лавочке, там, рядом с домом Лизаветы.
— Соскучилась, просто так я, повидать захотела, — сказала Аночка и, как всегда, когда говорила неправду, вдруг покраснела.
— Эх ты вруша! — спокойно улыбнулась ей Манька. — Я бы тебя в эту, как её… в конспирацию ни за что не взяла: жандарму сбрехнешь, а сама и в краску!
— То — жандарму, а то — подруге. Ты дура! — сказала Аночка.
— А когда за подружку признала, то и не ври. Ведь я понимаю: ты шла к нам — ждала все встретить по-старому, поговорить по делам собралася, ан тут совсем по-новому всё: те в царство небесное через полицию лезут, а эта на гроб цветочки готовит и сама уж в могилку сползла по колена! Чего с ней язык трепать зря-то!.. А ты не гляди, что в могиле. Я живуча, как кошка, сдыхать сдыхаю, а дай поиграться бумажкой — и кинусь! С последних сил, знаешь, кинусь! Мне бы бомбу, не то ливорвер, я бы им показала, где раки зимуют! — жарко сказала Манька.
— Да я не из тех…
— Я и знаю. Ты ведь из тех, которые за рабочую массу? Ну вот те и масса! «Спаси, господи, люди твоя. Победу благоверному императору!..»